КУ:КАЙ (КО:БО:-ДАЙСИ)
ТРИ УЧЕНИЯ УКАЗЫВАЮТ И НАПРАВЛЯЮТ
САНГО:СИИКИ
Ку:кай и его «Три учения...»
Глава 1. Предыстория
«У каждой книги есть своя судьба». Обычно эти слова вспоминают, говоря о бытовании уже возникшей книги: когда и как ее читали, кто и по какому поводу отзывался на нее. Но о судьбе книги можно говорить и с точки зрения предыстории: как случилось, что она вообще была написана?
Как и любой памятник классической словесности, книга Ку:кай под названием «Три учения указывают и направляют» (***, «Санго: сиики») задает исследователям больше вопросов, чем дает ответов. Главная загадка здесь, пожалуй, состоит вот в чем. С одной стороны, кажется очевидным: появиться подобный текст мог только в такое время и в такой стране, где учения Конфуция, Лао-цзы и Будды уже не просто известны, но хорошо усвоены. И даже больше - успели превратиться в некий набор прописных истин и, как прописи, порядком надоели образованному читателю, так что настало время оживить их занимательным изложением, где высокий слог не исключает шутки и издевки, а цитатное построение не отменяет авторского голоса, почти всюду весьма пристрастного. Но с другой стороны - речь идет о Японии рубежа VIII-XI вв., где, по сути, письменная словесность еще только начинается. Ведь и сама письменность была заимствована из Китая сравнительно недавно. Правда, перенять ее было бы невозможно, не осваивая книг, записанных китайским письмом, а значит, не изучая конфуцианских, даосских, а позже и буддийских источников. И все-таки ряд, в который встраивается «Санго: сиики», очень короток. Каждый из текстов, созданных к этому времени на Японских островах, - первый в своем роде. Все эти сочинения стали образцовыми для будущих веков, все они напрямую связаны с судьбой государства. О «трех учениях», разумеется, уже не раз упоминали, их понятиями пользовались, их указаний призывали слушаться, - но не было составлено ни одной книги, где предметом рассмотрения стали бы сами эти учения. Впервые открывать важнейшую тему и при этом подходить к ней так, как это делает Ку:кай, - казалось бы, невозможно. Однако книга перед нами. И годы ее [262] создания, насколько известно, никем не оспорены: исходный текст относится к 797 г., окончательная отделка к 826 г.
Моя задача в первой главе этого очерка - это, конечно, не изложение ранней истории конфуцианства, даосизма и буддизма в Японии. Я приведу лишь некоторые важнейшие даты и события, связанные с появлением «трех учений» на островах.
«Санго: сиики» принадлежит к тому слою японской словесности, который носит название камбун, (***) - «ханьские», то есть китайские письмена. Прежде всего этим словом называется собственно язык: китайский язык авторов, трудившихся в Японии. Кроме того, камбун - это набор источников: те памятники китайской книжности, по которым изучался язык. И наконец, камбун - это собственно японская литература, написанная по материковым правилам и образцам. Время становления камбун, японская древность, лучше других периодов истории Японии изучено в отечественной японистике. Мой обзор будет построен в основном на исследованиях советских и российских авторов (таких, как [История], [Воробьев] и др.), а также к русским переводам письменных памятников, составленных в эпоху Нара (710-794 гг.).
Начало камбун в Японии
Разумеется, словесность в Японии существовала и до того, как появились письменные знаки. Молитвословия богам-ками, родовые и местные предания, песни - всё это возникло гораздо раньше и долго еще существовало вне письменности.
Дописьменная Япония - это множество относительно самодостаточных земель-куни. Землями правят родовые вожди, каждый из них возводит свое происхождение к кому-то из богов и творит обряды своим предкам. Есть люди, обладающие особой силой для общения с местными богами: вещуны, шаманы. Им тоже принадлежит немалая власть. Примерно такое общество «людей Ва» (***) описано в «Обзоре царства Вэй» (***, «Вэй-чжи») - китайском историческом сочинении III в. н. э., содержащем первое письменное упоминание о Японии. Как сказано в «Обзоре...», «люди Ва» живут на гористых островах за морем на востоке. Там тепло, растут рис, конопля, тутовые деревья, есть и железо, хотя и немного. На островах имеется более трех десятков «стран», где одни люди подчиняются другим. Власти собирают подати, ведется обмен товарами. Самая сильная из «стран» - Яматай (иначе Ематай, *** или ***): соседи ее боятся, а потому платят ей дань и допускают к себе ее наместников. Многие «страны» долгое время воевали друг с другом, но в последнее время (то есть в первой половине III в.) замирились. Произошло это, когда появилась [263] сильная правительница, женщина-шаманка по имени Химико (иначе Пимико, ***). Она обладала даром прорицания, не показывалась никому на глаза, а правил от ее имени ее младший брат. В 248 г. Химико умерла и ее похоронили в большом кургане. Так сообщает «Обзор Вэй».
По данным археологов, именно тогда, в III в., в Японии начинается объединение земель под властью одного из родовых союзов: Ямато (***, пишется также и как ***). Происходит становление государства, и оно нуждается в письменности, ибо памяти людей нельзя доверить те сведения, которые касаются не их самих, не их рода и даже не их «страны», но державы в целом. Письмо полезно для дел насущных - учета податей, угодий, жителей, для закрепления договоров. Оно годится и для решения более отдаленных задач: например, для записи общегосударственных законов. Или - для написания своей истории, такой, которая показала бы, что Ямато властвует над объединенной державой по праву, положенному самими богами.
От кого жителям островов стало известно, что задачи управления лучше решать, имея на вооружении письмо и грамотеев? Очевидно, от переселенцев из Китая, а также из Кореи, куда китайское письмо проникло значительно ранее. Эти переселенцы в японской историографии именуются «людьми, сменившие родину» (***, кикадзин). Это не просто «люди государства», а еще и жертвы распада больших держав на материке. Позднее в японских летописях о китайцах будет сказано, что их возглавляли потомки государей: циньского Ши-хуана (это ***, китайцы-хата) и поздне-ханьского Сянь-ди (их называют ***, китайцы-аябито). Если следовать летописям, то хата появились в Японии во II в., когда в Ямато правил государь Тю:ай, по оценкам исследователей, это произошло позже, в III-IV вв. Аябито, по сообщениям летописцев, переселились при государе О:дзин, в конце III в., - на деле, вероятно, примерно на сто лет позже. Те и другие китайцы прибыли в Японию через Корею, где долгое время жили целыми общинами, но так и не прижились и с наступлением в Корее смутных времен вынуждены были двигаться дальше. Известно, что на острова пришельцы из-за моря явились с дарами - и, видимо, среди подарков были не только оружие и утварь материкового изделия, но и книги. Хата больше славились как ремесленники, зато аябито скорее других оказались востребованы как писцы и советники при государях Ямато [Игнатович 1987, 40-42]. Замкнутость китайских общин сохранялась некоторое время и в Японии. Прежде всего объясняется это несходством языков, а еще - тем, что пришлые люди чтили кого-то, не похожего на островных богов-ками. Это были то ли их собственные предки, то ли древние мудрецы из их книг, то ли Будда, чье учение пришло в Китай в I в. н. э.
В пору своего становления государство Ямато поддерживало постоянные связи с государствами Корейского полуострова. В тамошних [264] междоусобицах IV-V вв. Ямато помогало государству Пэкче против государства Когурё, поддерживаемого китайской династией Северная Вэй. Из Пэкче ко двору государей Ямато присылались дары, в том числе не только вещи, но и люди: особенно ценились искусные ремесленники и грамотеи. Взамен Ямато давало Пэкче военную помощь. Обмен посольствами между Ямато и корейскими государствами, а также между Ямато и различными китайскими династиями шел и позднее. Считается, что во многом скорое освоение письменности обусловлено было именно внешними причинами: перед материковыми державами страна Ямато желала выглядеть государством не хуже их. А это значило - не диким, не просто сильным, а приобщенным к вэнь, китайскому вежеству, и к закону, закрепленному в письменном слове.
Самые ранние письмена, относящиеся уже собственно к Ямато, описывающие японское общество не извне, а изнутри, - это надписи на изделиях, найденных археологами. Самым древним считается «меч из Инарияма», обнаруженный в 1978 г. достаточно далеко от самой страны Ямато, гораздо восточнее, близ нынешнего Токио. Сам меч изготовлен, по-видимому, в южном Китае, знаки на нем китайские, стиль их исполнения близок к корейскому. Дата в надписи приводится по китайской (и корейской) шестидесятилетней циклической системе, так что можно понять год, обозначенный на мече, и как 471, и как 531. Но содержание надписи касается дел вполне японских. Государь Вакатакэру жалует «стократ закаленный меч» своему сподвижнику Вовакэ-но Оми. Перечисляются предки этого человека, стоявшие, как и он, во главе государевых меченосцев. В этой надписи, как и в других (на мечах, на зеркалах и др.), государя Ямато именуют по китайскому образцу: «великий ван» (***, яп. о:кими), а страну его называют Поднебесной (***, яп. Тэнка). Таким образом, основные понятия китайского описания государства уже задействованы, хотя «Сыном Неба» японского государя станут называть позднее.
Но в тех же надписях прослеживается и нечто, напрямую не связанное с материковыми образцами. Например, существование в V-VI вв. особой системы управления, которая связывала правителей государства Ямато с главами других знатных родов. «Странами», вошедшими в объединенную державу, правили, как и прежде, родовые союзы (***, удзи), но их членам приписывались также некие наследственные титулы (***, кабанэ), указывающие на место данной ветви рода в отношениях с родом государей Ямато. Так, в надписи на «мече из Инарияма» Вовакэ - это удзи, родовое имя, а кабанэ звучит как Оми. Существовали также сообщества людей, подчиненных знатным родам (***, бэ); часто этим же словом обозначаются те семейства и объединения семейств, где по наследству передавалось право творить некий обряд (таковы Мононобэ, Имибэ) или заниматься одним из ремесел (О:томо-бэ - оружейники) и др. [265]
Первые летописи
Известно, что записи о делах государей некие «писцы» вели уже в IV-V вв.; не прерывались и устные предания. Но первая государева летопись появляется лишь в 712 г. Это «Записи о деяниях древности» (***, «Кодзики»). Согласно предисловию к «Записям...», государь Тэмму, услыхав, что и его родовые сказания, и предания других родов полны неправды и ошибок, повелел все их выверить, установить истину и записать ее для потомков. Тогда сказителю (или сказительнице) Хиэда-но Арэ (***) повелели выучить устные предания, а затем О:-но Ясумаро (***, ум. 723) записал их с его (или ее) слов. Первый свиток «Записей...» отведен повествованию о появлении богов и их деяниях на небе и на земле. Второй и третий свитки занимает рассказ о правлении на земле потомков Ниниги, внука солнечной богини Аматэрасу, о поколениях государей, они же верховные жрецы, об их деяниях и о делах их сподвижников, потомков других небесных богов. По сути это история не государства, а рода государей Ямато, заключающая в себе обоснование его прав на власть, закрепляющая его главенство над другими знатными родами. А раз так, то если в «Записях...» говорится о появлении на островах заморских письмен и учений, то лишь постольку, поскольку это значимо для государева рода: китайские книги и грамотеи упоминаются как дань, присланная правителем Пэкче государю Ямато (ср. ниже).
Через восемь лет после составления «Кодзики» под началом государева родича Тонэри пишется другая летопись, «Анналы Японии» (***, «Нихон сёки», 720). Это уже не история правящего рода, а история державы. Она гораздо больше по объему и шире по охвату событий, основана на более разнообразных источниках. Использованы не только предания государева рода и других знатных родов, но и местные сказания, и погодные записи (они велись при дворе начиная с первой половины VII в.), и личные записи чиновников, и хроники буддийских храмов, и сведения, заимствованные из корейских и китайских книг. Способ выражения во многом перенят от материковых источников. В «Анналах...» много скрытых цитат из текстов, вошедших в собрание «Изящная словесность» (***, «Ивэнь лэйцзюй») и других китайских памятников. Повествуя о «веке богов», «Анналы...» часто приводят разные варианты преданий: задача здесь - не провозгласить единственную истину, а свести воедино все то множество рассказов, какие существуют в державе. Если в целом «Записи...» сосредоточены больше на древнем прошлом, то в «Анналах» повествование тем подробнее, чем ближе ко времени составления летописи.
«Кодзики» остались единственным в своем роде изложением священной и незыблемой истории рода потомков солнца, а «Нихон сёки» породили традицию летописания. В 797 г., тогда же, когда Ку:кай составил «Санго: сиики», было завершено «Продолжение Анналов Японии» (***, «Сёку [266] Нихонги»). Ку:кай застал составление следующей летописи: «Поздних анналов Японии» (***, «Нихон ко:-ки», охватывает 792-833 гг.); с составителем этого труда, Фудзивара-но Оцугу, Ку:кай некоторое время вместе учился (см. ниже). А сообщение о кончине Ку:кай вошло уже в «Продолжение Поздних анналов Японии» (***, «Сёку Нихон ко:-ки», 833-850 гг.).
Как же в «Кодзики» и «Нихон сёки» представлена история проникновения заморских учений в Японию? Я остановлюсь только на двух хрестоматийных эпизодах. Один из них - это рассказ о первом знакомстве японского государя с китайскими книгами, другой - повествование о появлении буддийского закона на островах.
Появление конфуцианских книг в Японии
Первый эпизод относится к правлению государя О:дзин (***, прав. 270-310). Во втором свитке «Кодзики» говорится:
«...Стране Кудара [= Пэкче - Н. Т.] был объявлен высочайший указ: "Если имеются мудрецы, пришлите их". И вот, человек, посланный в согласии с высоким повелением, был по имени Вани-киси. Этому человеку король Кудара поручил поднести государю «Луньюй», десять свитков, и один свиток «Цянь цзы вэнь», всего одиннадцать свитков» [Кодзики, II, 93].
Далее сказано, что вместе с грамотеем Вани из Пэкче прибыли также кузнечных дел мастер Такусо, ткачиха Сайсо и еще некий Сусукори, искусный в сбраживании рисового вина.
Под «мудрецами» здесь понимаются знатоки искусств и ремесел, известных на материке, и, может быть, полезных и для Ямато. Как выясняется, мудреца можно прислать не только «живьем», но и в виде книги: так, правитель Пэкче посылает государю Ямато Конфуция в десяти свитках. «Цянь цзы-вэнь» (***, «Письмена в тысячу знаков» яп. «Сэн дзи-мон») тоже как нельзя кстати годились для подобного дара: они представляли собой свод самых главных понятий и установлений китайской государственной мысли. В том виде, в каком этот текст известен традиции, он возник в VI в., - а в летописи речь идет о конце III - начале IV в. Возможно, правда, что и в это время в Китае существовало сочинение с таким же названием. Но, скорее всего, при составлении летописи японский книжник упомянул «Цянь цзы-вэнь», поскольку книге надлежало быть среди даров - была ли она на самом деле, не столь уж важно. По-настоящему и Корея начинает приобщаться к конфуцианским наукам как раз в конце IV в.: сначала Когурё, потом Пэкче и Силла. Знакомство Когурё и Пэкче с буддизмом также относится к концу IV в., в Силла это произошло примерно на столетие позже [Игнатович 1987, 55]. Поэтому более достоверными представляются те сообщения, согласно которым распространение [267] конфуцианства в Японии начинается на рубеже VI-VII вв. И все же для летописцев было важно отнести это событие к более ранним временам - раньше появления буддизма [Игнатович 1987, 56].
Тот же эпизод описан и в «Нихон сёки»:
«Осенью 15-го года [правления О:дзин]... ван Пэкче прислал ко двору чиновника Аджикки... и двух отменных коней <...> Этот Аджикки... умел хорошо читать классические тексты. Поэтому он был назначен наставником принца Уди-но ваки-иратуко.
Вот, спросил государь у Аджикки: "Есть ли ученый, который бы превосходил тебя?" Тот отвечал: "Есть человек по имени Ванъин [Вани]. Он меня превосходит".
<...> Весной 16-его года, во 2-ом месяце, прибыл Ванъин. Он был назначен наставником принца Уди-но вакэ-иратуко, который выучился у Ванъина читать все классические [китайские] книги. Не было ни одной, которую он бы не выучил» [Нихон сёки, I, 291].
Интересно, что здесь речь идет уже обо «всех книгах». Установка на то, что книги надо знать «все», сказывалась в Японии и позднее. Отсюда, может быть, и особая любовь к разного рода хрестоматиям, тематическим подборкам и т. п. Потомки Ванъина заняли свое место среди государевых сподвижников-грамотеев: считается, что и Ку:кай по материнской линии приходился ему родичем.
Начало буддизма в Японии
О первом появлении буддийских книг на островах сообщают «Анналы Японии». Речь идет о правлении государя Киммэй (***, прав. 539-571), запись относится к 10-й луне 552 г.:
«Ван Пэкче Сонмён прислал Нориса Чхиге из рода Хи... Он преподнес государю статую будды Шакьямуни из золота с медью, несколько стягов, зонтов и сутр. Кроме того, прилагалось послание, в котором превозносилась добродетель распространения [учения Будды]: «Среди всех Законов этот Закон - самый превосходный. Его трудно понять, в него трудно войти. Даже Чжоу-гун и Кун-цзы не смогли познать его. Этот закон - без меры и предела; с его помощью достигают счастливого воздаяния и высшей мудрости. Представь себе человека, обладающего всеми богатствами, которых он желает; что бы он ни замыслил - все происходит согласно его желаниям. То же - и с сокровищем чудесного Закона. То, о чем молишься и чего желаешь, - достигается как то задумано и исполняется без изъятия. От далекой Индии и до трех стран Кореи нет никого, кто не принял бы Учения и не последовал ему, кто не почитал бы его и не преклонялся перед ним. Поэтому я, ван Пэкче Мён, почтительно посылаю своего подданного [268] Нориса Чхигэ для того, чтобы он передал государю [это Учение] для распространения его в Его стране. Так будут исполнены слова Будды о том, что его закон распространится на восток» [Нихон сёки II, 53].
Для чего нужны китайские книги, известно: без них нет грамотности, нет грамотеев-чиновников, нет государства. Так сложилось еще со времен древнего Чжоу-гуна, это обосновано у Кун-цзы. А с какой целью принимают буддийское учение? Этот вопрос еще подлежит прояснению. В отличие от наставлений Конфуция, которые надо изучить, а затем «претворить в жизнь» (ср. «Беседы и суждения», I, 1), буддийский «Закон» (***, яп. хо:, кит. фа, санскр. dharma) действует не столько за счет прилежного соблюдения отдельных правил, сколько сам по себе. Он исполняет желания. Какие именно? Речь здесь пока не идет о главном устремлении буддистов: достичь просветления-бодхи, выйти из пределов здешнего мира и обрести успокоение в нирване. Имеется в виду цель, которая позднее будет выражаться формулой «польза и выгода в этом мире» (***, яп. гэндзэ ринку). «Стяги» и «зонты» относятся к «сокровищам закона»: это знаки могущества будды как «Государя Закона». И в то же время они вверяются земному государю как «вращателю колеса», приверженцу Дхармы.
Существовало ли в 552 г. такое письмо, которое приведено в «Нихон сёки», сомнительно. Текст, воспроизведенный в «Анналах...», содержит несколько цитат. И, например, выдержка из «Сутры золотого света», почти дословно приводимая в нем, взята из китайского перевода сутры, сделанного не ранее начала VIII в. Однако в традицию послание Сонмёна вошло именно в таком виде.
Далее летопись рассказывает о том, как оно было воспринято:
«Выслушав до конца, государь заплясал от радости и объявил свою волю посланцу: "Со времен давних и до времен нынешних Мы не слышали о таком удивительном Законе. Но Мы сами решить не можем". Поэтому государь спросил у каждого из сановников: "Ослепителен облик Будды, преподнесенного нам соседней страной на западе. Такого у нас еще не было. Следует ли почитать его или нет"?
Сога-но Опооми Инамэ-но Сукунэ сказал: "Все соседние страны на Западе почитают его. И разве только одна страна - страна Урожайной Осени Ямато - может отвергнуть его?"
Мононобэ-но Опомурази Вокоси и Накатоми-но Мурази Камако совместно обратились к государю: "Правители, пребывавшие в Поднебесной нашей страны во все времена, весной, летом, осенью и зимой почитали 180 богов в святилищах Неба и Земли. Если же станем заново почитать бога соседних стран, то боги нашей страны могут разгневаться".
Государь сказал: "Пусть [статуя] будет дана желающему ее - Инамэ-но Сукунэ - и пусть он попробует почитать ее".
Опооми упал на колени и принял [статую] с радостью. Он поместил ее в своем доме в Опарида. Прилежно выполнял обряды ухода из мира. [269] Провел [обряд] очищения в своем доме в Мукупара и превратил его в храм. После этого разразились болезни, и люди умирали молодыми. И чем дальше, тем больше. Вылечить болезнь было нельзя.
Мононобэ-но Опомурази Вокоси и Накатоми-но Мурази Камако согласно докладывали государю: "Поскольку наш прежний совет не был принят в расчет, люди стали умирать от болезни. Следует одуматься, пока не поздно, и тогда непременно обретем радость. Немедленно выбросим [статую Будды] и с рвением станем искать будущее счастье". Государь сказал: "Пусть будет так". Чиновники взяли статую будды и выбросили ее в канал Нанипа. И еще они подожгли храм. Он сгорел дотла. В это время не было ни ветра, ни облаков, но огонь неожиданно поглотил большой зал государева дворца» (Нихон сёки II, 53-54].
Рассказ о послании Сонмёна приведен и в другом источнике, «Записках храма Ганго:дзи» (***, «Ганго:дзи энги»). Важное отличие между двумя этими изложениями в том, что вместе со статуей будды, как сказано в «Записках...», прислана была утварь для «окропления головы» - то есть для буддийского обряда посвящения государя (см. ниже). «Записки...» тоже указывают на возражения государевых сподвижников, приверженцев «пути богов», против принятия «Закона Будды». Но, в отличие от «Анналов...», государь Киммэй здесь советуется еще и с государыней, и она высказывается за принятие заморского учения. Кроме того, храмовый летописец отмечает, что впоследствии в Японии люди мало-помалу стали чтить учение Просветленного, - правда, в основном это были переселенцы, корейские и китайские [Игнатович 1987, 60].
Противники буддизма и в «Анналах...», и в «Записках храма Ганго:дзи» - это представители родов Мононобэ (***) и Накатоми (***). Оба рода вели отсчет своих поколений от небесных богов-ками и были ближайшими жрецами при государе. Род Сога (***) не мог похвалиться столь знатным происхождением - и Сога-но О:ми Инамэ твердо решил опереться на буддийское учение, а потому продолжал чтить будду, несмотря на гонения. В 584 г. Сога-но Умако (***), сын Инамэ, попросил себе две статуи будд, привезенные из Пэкче (одна изображала Майтрейю, будду будущего). Для них Сога-но Умако построил возле своего дома буддийский храм. Он же предпринял поиски монахов, «умеющих исполнять закон будды» и творить обряды. Так людьми Сога был найден некий бывший монах, вернувшийся в мир: его звали Хе Пхён и родом он был также из Пэкче. Этот бывший монах провел обряд, чтобы посвятить в монахини дочь одного из сподвижников Сога-но Умако, Сиба (***, кит. Сыма) Датито. Позднее в монахини приняли еще двух девушек. Однажды Сиба Датито обнаружил в постной пище, приготовленной для буддийской трапезы, шарира - останки земного тела Будды Шакьямуни, чудесным образом перенесшиеся в Японию. Он поднес их Сога-но Умако. Останки испытывали: били по ним молотом, бросали их в воду, но причинить им вреда не сумели. С этих пор, [270] говорится в «Анналах...», Сога-но Умако и его люди обратились к почитанию закона будды: отсюда ведет начало закон будды в Ямато. И хотя в следующем, 585 г., распространились новые болезни и храм опять был разрушен, а над монахинями учинена расправа (впрочем, до смертоубийства дело не дошло), - Сога-но Умако все-таки получил от государя разрешение чтить того бога, кого почитал его отец, то есть будду, но только с одним условием - не проповедовать заморское учение другим.
В «Анналах...» сообщается, что государь Бидацу (прав. 572-585) не чтил закона будды, его преемник Ёмэй (прав. 585-587) почитал и закон будды, и путь богов (=ками). Противостояние Сога и жреческих родов завершилось победой Сога; вплоть до середины VII в. они заняли место рода, откуда государи брали себе жен. Сложилось то положение, когда государь, потомок богов, несет сан верховного жреца, а родич его, дядя или дед по матери, фактически правит государством. Есть своя логика в том, что этот ближний к государю человек и его родичи не занимаются делами богов, и даже больше - почитают заморского будду. Позже, когда государи станут брать жен из рода Фудзивара (вышедшего из рода Накатоми), место учения, особо чтимого родом Фудзивара, займет конфуцианство, опять-таки пришедшее из-за моря. Можно сказать, что быть приверженцем одного из «трех учений» в Японии в это время - означает в какой-то мере быть вне собственно японской религии, вне служения ками.
Летописи подробно не сообщают, как на Японских островах впервые появились даосские книги или даосские учителя. Учение Лао-цзы и Чжуан-цзы не принималось на государственном уровне - хотя некоторые мастера, прибывавшие из Кореи (прежде всего врачи), скорее всего, владели и даосским искусством «питания жизни». О первых свидетельствах знакомства жителей Японии с даосскими искусствами речь пойдет ниже.
«Наставления семнадцати статей»
Памятник, который можно считать началом самоописания японского государства, - это «Наставления в семнадцати статьях» (***, «Дзю:сити дзё:»), приводимые в «Анналах Японии» под 12-ым годом государыни Суйко, то есть под 604 г. «Наставления...» часто называют «первой конституцией Японии». Приписывают их племяннику и наследнику государыни Суйко, Сё:току-тайси (***, 574-622) - он же доводился племянником и Сога-но Умако. Содержание «Наставлений...» - пример самого тесного переплетения понятий, восходящих к конфуцианскому и буддийскому учениям.
Согласно первой «статье», согласие и дружелюбие - единственное средство против вражды между знатными родами (ст. 1). Чтобы настало [271] согласие, надо почитать «три сокровища» - будду, его закон и его общину (ст. 2). Господин и слуга - как небо и земля: одному надлежит решительно действовать, другому покорно поддаваться, одному повелевать, другому исполнять повеления (ст. 3). Основу подчинения и управления, расстановки всех людей на должные места дает «обряд», ритуал в широком смысле слова (китайское понятие ли, ***, тж. ***). Правила ли учат, какими нужно быть, чтобы поступать хорошо (ст. 4). Необходимо отбросить алчность и корыстолюбие (ст. 5), наказывать злых и поощрять добрых (ст. 6). Каждому присущ свой долг по мере дарований (ст. 7), однако всем чиновникам независимо от происхождения надлежит ревностно трудиться (ст. 8), блюсти верность (ст. 9), отринуть гнев и стать терпимыми друг к другу (ст. 10), но при этом воздавать за поступки по справедливости (ст. 11). Местным правителям не следует облагать народ своими особыми податями, ибо в стране вся власть принадлежит государю (ст. 12). Никто из лиц, назначенных на должность, не вправе уклоняться от участия в государственных делах (ст. 13). Нельзя поддаваться зависти (ст. 14), вообще надо по возможности отбросить личное и обратиться к государственному (ст. 15). Народ надо использовать на общественных работах, но только зимой, когда он свободен от полевых работ (ст. 16), важные дела надо решать сообща, совместно обсуждая их, в менее важных делах должностному лицу следует полагаться на собственное разумение и обходиться, как проще (ст. 17) [Нихон сёки II, 95-98].
Даже по такому краткому пересказу видно соединение в «Наставлениях» Сё:току-тайси воспитательных указаний для всех и каждого - и положений, напрямую обращенных к будущему чиновному сословию. Каждая из «статей» имеет свою обширную предысторию в китайской политической мысли. Но понятия «ритуала», «верности» и другие соседствуют у Сё:току-тайси с буддийским предписанием обуздать три главные порока: алчность, ярость и невежество. Сам наследник Сё:току вошел в память потомков как приверженец будды. С другой стороны, в истории древней японской государственности он словно бы занимает место Чжоу-гуна, одного из главных китайских образцов «человека власти»: того, кто не правит сам, но дает наставления и всячески помогает государю.
Чиновничьи ранги, приблизительно соответствующие китайскому праву, были впервые введены в Японии за год до «Наставлений...», в 603 г. А в 645 г. впервые был объявлен девиз правления по китайскому обычаю (***, нэнго:), он звучал как «Великие перемены» (***, Тайка), Сами «перемены» начались годом позже. Вся земля была объявлена собственностью государства, устанавливалась надельная система пользования ею. За единицу измерения бралось поле 30 на 12 шагов (***, тан), 10 тан равнялись 1 тё: (***). Высшие сановники получали в кормление некоторое число крестьянских дворов, другим чиновникам полагалось жалование. Страна была поделена на «земли» (***, куни), «уезды» (***, гун) и «деревни» (***, [274] ри, «земли» объединялись в семь «путей», отдельно считалась столица и столичная область (***, Кинай). Учреждались «почтовые дворы» с лошадьми, задумано было строительство дорог. Вводилась воинская повинность, создавалось постоянное войско (в крестьянских семьях по одному мужчине из четверых забирали на военную службу). Предполагалось провести перепись всех дворов, а затем начислить налоги: зерном, тканями или шелковой ватой, а также ввести трудовую повинность в пользу государства. Позже общественные работы приобрели большой размах: особенно тогда, когда начались строительство общегосударственной сети дорог и возведение столицы Нара.
В 645 г. были введены должности «левого», «правого» и «внутреннего» министров (соответственно, ***, яп. садайдзин, ***, яп. удайдзин, ***, яп. найдайдзин), а позднее также «главного министра» (***, яп. дайдзё дайдзин). В 649 г. началось учреждение «министерств». В итоге их стало восемь: палаты Обрядов (***, яп. Сикибусё:), Знати и церемоний (***, яп. Дзибусё:), Народа (***, яп. Мимбусё:), Военных дел (***, яп. Хё:бусё:), Наказаний (***, яп. Гё:бусё:), Казны (***, яп. О:курасё:), Центральных дел (***, яп. Наксщукасасё:), Двора (***, яп. Кунайсё:). Был также образован «Большой государственный совет» (***, яп. Дадзё:кан) и внутри него «Высший политический совет» (***, яп. Гисэйкан), куда входили представители древних знатных родов столичной области. Особое место в государственном управлении занимал «Совет по делам богов неба и земли» (***, яп. Дзингикан).
Множеству «палат» требовалось много чиновников всех рангов. В 670 г. было открыто Училище (***, Дайгаку) для подготовки чиновников, в 701 г. - провинциальные школы. Однако, насколько известно, назначение на должности никогда не осуществлялось по способностям и по заслугам, но всегда - по происхождению [Мещеряков 1987, 42]. При том, что система «удзи - кабанэ» не раз реформировалась, значимость свою она сохранила. Высшие должности занимали представители наиболее влиятельных родов, сподвижников государя, местная власть осуществлялась выходцами из семей наследственных правителей «земель» (***, яп. куни-но мияцуко), среднее и нижнее звенья управления пополнялись из числа потомков семей, издавна пользовавшихся покровительством крупных знатных родов, в том числе и из переселенцев.
«Государство законов»
710-794 гг., эпоха Нара, носит в японской историографии название «государства законов» (***, рицурё: кокка). Законодательные своды, где изложено устройство этого государства, - это «Законы годов Тайхо:» [275] (***, «Тайхо: рицурё:», 701 г.) и «Законы годов Ё:ро:» (***, «Ё:ро: рицурё:», составлены в 718 г., введены в действие в 757 г.). В их названиях «Тайхо:» и «Ё:ро:» - это нэнго:, девизы соответствующих годов правления, а сочетание «рицурё:» обозначает «уголовное» (***, рицу, кит. люй) и «гражданское» (***, рё:, кит. лин) законодательство. Такое разделение было принято в Китае, оба свода построены по китайским образцам. Но в Китае над «люйлин» надстраивались еще ли - «обряды», «правила», закрепленные конфуцианским учением как основа государственной и общественной жизни. А в Японии «ли» отчасти вошли в законодательство, в целом же не привились настолько, как в Китае. Поэтому и конфуцианство не имело столь прочной опоры, ведь для последователей Конфуция «обряд», ли - один из основных предметов осмысления.
Уголовное уложение «государства законов», «рицу», почти утрачено: известно, что оно применялось слабо, в основном действовало обычное право. Но гражданское законодательство, «рё:», сохранилось. Оно имеет некоторые особенности в сравнении с китайским. Во-первых, в нем не прописан порядок наследования престола, ибо династия мыслится как единственная и вечная. Роль экзаменов при занятии должностей сравнительно низка, роль родовой знати, особенно на местах, высока. Наделы могут даваться не только мужчинам, но и женщинам (в Китае - только вдовам), налоги взимаются иначе, чем на материке (некоторые общины платят не тканями, а, например, продуктами морского промысла). Важно, что религиозные дела освещаются иначе: есть высший орган «по делам богов», есть закон о монахах, то есть буддийская община рассматривается как своего рода государственное учреждение.
От «государства законов» осталось много письменных источников из разряда текущей документации. В частности, в распоряжении исследователей имеются записи Управления по переписыванию сутр (основано в середине VIII в.). Тамошние тексты - переписка с другими ведомствами, учет проделанных работ и т. п. - не уничтожались. Около 10.000 из них сохранилось до наших дней в Сё:со:ин (***), хранилище храма То:дайдзи (***) в Нара. Ученые уже в XX в. обратили внимание на то, что написано на оборотах этих листов: там можно встретить подворные списки крестьян и другие данные.
Кроме того, записи велись на деревянных табличках моккан (***). Большое число этих табличек было найдено археологами: часто не нужные более моккан выбрасывались в городские каналы, и в воде тексты, написанные на дереве, сохранились достаточно хорошо. На моккан писались повестки чиновникам прибыть к месту службы, донесения, бирки об отправке и доставке грузов, разрешения на провоз груза через заставу или через дворцовые ворота, объявления о розыске преступников, о похищенном скоте, а также учебные прописи. Обилие таких табличек (их найдено около 200.000) говорит о широком распространении грамотности, о [276] действующем чиновничьем аппарате, об активном перемещении людей и богатств по стране.
Японией (***, Нихон или Ниппон) страна стала называться с начала VIII в.: впервые это слово встречается в 702 г. в связи с посольством Авата-но Махито в Китай. В 713 г. был издан указ о составлении «Описаний земель и обычаев» (***, «Фудоки»), До наших дней полностью сохранилось описание земли Идзумо (***, «Идзумо-фудоки», 733 г.) и частично описания еще четырех земель: Харима, Хитати, Бунго, Бидзэн [Идзумо-фудоки, Древние Фудоки]. По ним можно судить, что «земли» в эту пору во многом живут по местным обычаям, их предания часто заметно расходятся с теми, что изложены в «Кодзики». Повествование в «Фудоки» отчасти выстроено по образцу соответствующих китайских сочинений: перечисляются горы, побережья, поселения, дороги и почтовые дворы, рассказывается, где что растет, какие встречаются звери, птицы, рыбы, какое хозяйство можно вести.
И на юге, и на севере Японии в эпоху Нара еще жили чужие племена - эмиси; с ними воевали, их облагали данью. Государство расширялось, за освоение не возделанных прежде земель давалось освобождение от налогов. Но каким бы оживленным ни был обмен людьми, ценностями, сведениями между центром и окраинами, все равно в провинциях во многом шла своя жизнь: всюду свои боги и их потомки - местная знать, всюду свой обычай. Видимо, так было и на острове Сикоку, где родился Ку:кай (см. ниже, гл. 2)
Усилиями всей страны впервые строился большой город - Нара (***, другое его название Хэйдзё:, ***). Возводили его по регулярному плану, по образцу китайской столицы Чанъань.
Город занимал прямоугольный участок земли 4,8 на 4,3 км. Посередине с севера на юг шла «улица Киноварной птицы» (***, яп. Судзаку) шириной 67,5 м. По ее сторонам проложены были широкие каналы. Девятью улицами, параллельными главной, и десятью, перпендикулярными ей, город делился на 72 квартала площадью 553 кв. м. каждый. Государев дворец и здания палат располагались рядом (в Чанъань - раздельно), в северной части города за пятиметровой глинобитной стеной. Вокруг города стен не было (в Чанъань стены были). Город в основном был построен из дерева.
Столицу строила вся страна: засыпались низины, выравнивались холмы, для доставки материалов был вырыт канал; только государев дворец строили в течение двух лет около 3000 работников. Население города Нара оценивается исследователями от 100 тыс. до 200 тыс. человек. Государь, его семейство и дворцовые служащие, родичи государя и высшие чиновники жили в дворцовом комплексе. Кварталы занимали дома столичных чиновников с их семьями (35-40 тыс.), храмы с монахами, жилища ремесленников, строительных работников, стражников и т. п. Кроме того, в [277] столицу по делам службы прибывали местные чиновники, а еще - собирались беглые крестьяне со всей страны. С переносом государевой столицы в Хэйан (см. ниже) город Нара еще долго оставался столицей буддийской Японии.
Конфуцианское образование и успехи рода Фудзивара
«Великим переменам» Тайка предшествовала смена ближайших сподвижников государя: род Сога был побежден, на престол взошел государь Ко:току (***, прав. 645-654). Его поддерживал Накатоми-но Каматари (***, 614-669), которому в скором времени было пожаловано прозвание Фудзивара (***, «поле глициний»). С этих пор на протяжении многих [278] столетий жены государей брались почти исключительно из рода Фудзивара. Постепенно утверждался обычай возводить на престол очень молодых государей. Дядя государя по матери часто бывал сначала регентом при нем, а потом становился «канцлером» (***, кампаку). А. Н. Мещеряков, прослеживая причины возвышения рода Фудзивара, отмечает то, что это семейство делало ставку на конфуцианское образование [Мещеряков 2001]. Сын Каматари носил примечательное имя Фухито (***, 659-720, то же имя можно записать как *** - «человек кисти», «писец»). Он был одним из составителей «Законов годов Тайхо:» и главным - «Законов годов Ё:ро:», писал китайские стихи. Все четыре сына Фухито заняли высокие должности. От этих четверых пошли четыре ветви дома Фудзивара, из которых особую значимость со временем приобрел так называемый «северный дом» (потомки второго сына, Фудзивара-но Фусасаки). Старший сын Фухито в 706 г. стал главой Управления образования (***, Дайгаку-рё:), сам был знатоком китайской словесности, преподавал в Училище, в 701 г. ввел там церемонию поклонения Конфуцию [Мещеряков 2001, 31] и тоже прославился как поэт. Вместе с тем, и Фухито, и его сыновья чтили и будду; в 710 г. род Фудзивара возвел в Нара храм Ко:фукудзи (***). Однако и этот, и другие знатные роды смотрели на буддизм прежде всего с государственных позиций, с точки зрения «пользы» - о чем, например, говорит «Уложение о монахах и монахинях» в «Законах годов Тайхо:» (см. ниже).
Образованию в «Законах годов Тайхо:» посвящено «Уложение о государственных школах» (***, «Гакурё:») [Тайхо:рё:, 114-120]. В нем сказано, что преподавателями должны становиться только хорошие знатоки классических книг, каллиграфии, математики (ст. 1). В Училище предписывается зачислять детей и внуков чиновников пятого ранга и выше, а также потомков писцов из родов, живущих в землях Ямато и Кавати, - то есть выходцев из семей, прибывших из Кореи и Китая. Детям других лиц (шестого-восьмого рангов) места в Училище предоставлялись только по настоятельной просьбе родителей. В местные школы принимали детей провинциальных чиновников. Школяров Училища содержала палата Обрядов (Сикибусё:), в местных школах - управления провинций. В обучение брали «смышленых» мальчиков 13-16 лет включительно (ст. 2). Как правило, обучение занимало девять лет. Ежегодно весной и осенью, «в четвертый день среднего месяца», в Училище и в провинциальных школах следовало проводить поклонение Конфуцию (ст. 3). Ученики должны были совершать установленное подношение учителям (ст. 4). Книги, которые надлежало изучать, перечислены в ст. 5. Это «Книга перемен» («И-цзин»), «Книга летописей» («Шу-цзин»), «Чжоуские обряды» («Чжоу ли»), «Правила обрядов» («И ли»), «Записки об обряде» («Ли-цзи»), «Книга песен» («Ши-цзин»), «Толкования Цзо Цюмина к "Веснам и осеням"» («Цзо-чжуань»), а также «Книга сыновней почтительности» («Сяо-цзин») и «Беседы и суждения» Конфуция («Лунь юй»). Установленные комментарии к [279] названным книгам перечислены в ст. 6. Ученики могли выбирать, какие из книг осваивать. Книги делились на «большие» («Записки об обряде», «Толкования Цзо...»), «средние» («Книга песен», «Чжоуские обряды», «Правила обрядов») и «малые» («Книга перемен», «Книга летописей»). «Уложение...» дает правила: сколько тех, других и третьих книг можно выбрать и в каком сочетании (ст. 7). Ст. 8 оговаривает проверку знаний (один раз в десять дней перед неучебным днем). Пройденный отрывок из книги надо было знать наизусть, чтобы восстановить из тысячи знаков три пропущенные знака в любом месте текста. Кроме того, надо было уметь пересказывать содержание изученных отрывков. «Уложением...» установлены ежегодные испытания, оговорены способы поощрения способных учеников и наказания нерадивых, указаны условия отчисления из Училища и из местных школ. Каждая книга преподавалась отдельно (ст. 9). Преподаватели ежегодно сами подлежали проверке - какой объем текстов им удалось разобрать со школярами и насколько те усвоили пройденное (ст. 10). При успешном заучивании двух и более книг школяра разрешалось выдвигать на должность после особого испытания (ст. 11). Даже если юноша был слаб в толковании книг, но научился хорошо писать, его можно было назначить на одну из вспомогательных должностей (ст. 12). В ст. 13 перечисляются математические сочинения: их также следовало выучить наизусть, по отдельности - сначала одно, потом другие. Чиновники из местной администрации могли привлекаться к преподаванию, если они были способны толковать книги. В случае успеха такому приглашенному наставнику полагалось повышение по его основной его службе (ст. 14). Испытания по каллиграфии и математическим дисциплинам также оговорены в «Уложении...» (ст. 15). Отпуск школяру давал глава Училища или управление соответствующей провинции, причем школяра снабжали пропитанием на дорогу до дому (ст. 16). За пропуск школьных обрядов, шествий и др. запрещалось наказывать учеников хозяйственными работами (ст. 17). Школярам не разрешалось заниматься музыкой, кроме игры на гуслях (***, кит. цинь, яп. кото), а также воинскими искусствами - кроме стрельбы из лука. За пропуск в год 100 и более учебных дней сверх разрешенного отпуска школяра полагалось отчислять из школы (ст. 18). На время траура по родителям школяру моложе 25 лет разрешался длительный отпуск (ст. 19). Летом и осенью давались отпуска для полевых работ и для того, чтобы забрать из дому зимнюю одежду (ст. 20). Отчисление школяра из Училища подлежало письменному обоснованию, грамота о нем подавалась в палату Обрядов. О детях и внуках лиц пятого ранга и выше следовало регулярно докладывать Государственному совету независимо от их успехов в занятиях (ст. 21). Наставникам надлежало посещать вместе с учащимися обряды (например, новогодние, похоронные и др.) и разъяснять им смысл происходящего (ст. 22).
Судя по многим источникам, мотивация к учебе у юношей была самым слабым звеном в системе образования. Очевидно, так было потому, [280] что в Училище всегда проводилось четкое различие между детьми высшего начальства и всеми остальными. Назначение на должность определялось прежде всего происхождением, а не успехами в науках. Даже если иметь в виду только практические соображения, приходится признать: в самом конце эпохи Нара Ку:кай, выбрав «карьеру» буддийского монаха, мог преуспеть на службе государству гораздо больше, чем если бы он по окончании училища стал светским чиновником.
Обоснование священности мирской власти, осмысление роли государя как правителя (а не только как жреца) отчасти проводилось усилиями тех же знатоков конфуцианской науки из рода Фудзивара. А. Н. Мещеряков в связи с этим обращает внимание на находки невиданных черепах, о которых часто говорится в «Продолжении анналов Японии». Как правило, эти чудесные существа попадались всякий раз, как усиливались позиции рода Фудзивара. На теле черепах виднелись знаки, восходящие к «Книге перемен» (а ведь и сам Фу Си впервые увидел триграммы на панцыре черепахи!), а также иероглифы с благовещим значением: свидетельства высокой добродетели государя. В честь таких находок не раз давались нэнго:, названия годов правления [Мещеряков 2001, 33, 35]. Не случайно Ку:кай называет своего конфуцианца именем «Шерсть черепахи»: где черепаха, там и конфуцианская ученость, там и забота о процветании государства.
«Продолжение анналов Японии» снова и снова упоминает меры, поощряющие образование: почитание Конфуция, помощь способным школярам, постоянное совершенствование учебного распорядка в Училище, доставка из Китая книг по разным отраслям знания. В середине VIII в. Фудзивара то усиливают, то ослабляют свои позиции, уступая, например, людям из рода Татибана (***, ветвь государева рода) - так было после 737 г., когда все четверо сыновей Фухито умерли при эпидемии оспы, а ведущее положение при дворе заняли Татибана-но Мороэ (***, 684-757) и его сподвижники, Киби-но Макиби (***, 693-775) и монах Гэмбо: (ум. 746). В 740 г. внук Фухито, Фудзивара-но Хироцугу (*** ), отправленный служить на Кю:сю:, поднял мятеж против государя Сё:му (***, прав. 724-749), был побежден и казнен, однако из рода Фудзивара не все его поддерживали и пострадали тоже не все. После мятежа усилились буддийские веяния - в частности, вероятно, потому, что буддисты никогда не ставили под сомнение достоинств государя. А некоторые конфуцианцы в это время еще считали возможным порицать отдельные государевы решения и не окончательно отбросили учение о «мандате Неба» (***, кит. тяньмин, яп. тэммэй), по которому правящая династия может быть смещена, если утратит свою «доблесть» (***, кит. дэ, яп. току). Позже мысль о «небесном мандате» в Японии была совершенно отвергнута [Мещеряков 2001, 38].
Следующей весьма значимой фигурой из дома Фудзивара стал Накамаро (***, 706-764). С ранних лет он выделялся способностями к наукам, особенно к математическим, начинал службу в Управлении школ [281] чиновников. По мере своего возвышения он проводил такие меры, как предписание повсеместно изучать «Книгу сыновней почтительности» (ее следует усвоить не только чиновным людям, но и «народу»), заимствование некоторых законодательных новшеств из танского Китая (в частности, повышение возраста трудовой повинности), понижение налогов и другие шаги в сторону укрепления в государстве «человечности» (***, кит. жэнь, яп. нин), как ее понимает Мэн-цзы. Накамаро указывал на плохое знание в Японии «музыки и ритуала», на важность освоения астрономии, «пути Инь и Ян», календарного дела, иглоукалывания. Он много внимания уделял гаданиям и сам часто обращался за предсказаниями к главе «Ведомства по делам темного и светлого начал» (***, Оммё:-рё:), искусному потомственному гадателю [Мещеряков 2001, 47]. При Накамаро были присвоены новые родовые прозвания выходцам из переселенческих семей, в том числе и грамотейских. Этим людям впервые были даны и титулы-кабанэ [Мещеряков 2001, 45]. Один из переселенцев стал главой управления по строительству храма То:дайдзи, сменив Саэки-но Имаэмиси (ср. ниже, гл. 2), не бывшего с Накамаро в добрых отношениях. В 752 г. в Китай было отправлено посольство во главе с Фудзивара-но Киёкава. Такие посольства за книгами и за знаниями, отправка юношей на обучение на материк, как и другие начинания, говорят о том, что Фудзивара стремились взять в свои руки распространение конфуцианской учености в Японии.
Буддийская община и буддийские книги в Японии
В городе Нара было больше сорока буддийских храмов. Некоторые из них были перенесены еще из прежней столицы, города, носившего название Фудзивара. Самые крупные из храмов Нара - это Сайдайдзи (***), То:сё:дайдзи (***) и Якусидзи (***) в западной половине города, Ко:фукудзи (***), Гангогдзи (***) и Дайандзи (***) в восточной половине. Самый большой храм - То:дайдзи (***), «Великий храм Востока» - был расположен в северо-восточной части Нара на площади в 90 га. Его главное здание, «золотой зал», сохранилось в уменьшенном виде (2 к 3) и сейчас длина его 57 м, ширина 50 м, высота 49 м (считается, что это самое большое деревянное сооружение в мире). В храме была установлена шестнадцатиметровая статуя «большого будды»: на ее выплавку ушло около 400 тонн меди. Были в Нара и так называемые родовые храмы (***, удзи-дэра), воздвигнутые той или иной знатной семьей, в том числе Ко:фукудзи - семьей Фудзивара. У семьи Саэки, предков Ку:кай по отцу, тоже был свой храм Саэки-ин.
Несколько слов надо сказать о том буддизме, который распространялся в Японии. Известно, что «буддизма вообще», отдельно от различных [282] его школ, не существует. В Японии по большей части был представлен буддизм «великой колесницы», махаяны. Здесь будда (***, кит. фо, яп. буцу/хотокэ) - это не только «исторический» Будда Шакьямуни (***, яп. Сяка). Будда - это также и «тело Закона» (***, санскр. dharmakaya, кит. фашэнь, яп. хоссин): он присутствует повсюду в мире и пребывает в «сердцевине» (***, кит. синь, яп. син/кокоро) каждого живого существа. Таков Вайрочана (***, яп. Дайнити, «Великий солнечный будда»), чьим изображением служит «большой будда» в храме Тогдайдзи. Чтили в Японии и других будд: Амитабху (он же Амида, ***), Бхайшаджья-гуру (он же Якуси, ***, «Царь врачевания») и еще нескольких. Почитались и бодхисаттвы (***, кит. пуса, яп. босацу), «те, чья сущность - просветление», - существа, помогающие всем людям достичь просветления-бодхи (***, кит. пути, яп. бодай). Из бодхисаттв особым почтением пользовался Майтрейя (он же Мироку, ***), которому, по преданию, суждено стать буддой будущей мировой эпохи.
Буддийское учение обращалось к человеку не как к части рода, не как к жителю той или иной земли, местности, - но как к существу, которое стоит один на один с собственной судьбой, заданной законом причин и следствий, со своими страданиями и со страхом смерти, с тем круговоротом всеобщего непостоянства, который, по учению Просветленного, может быть преодолен. Тем самым именно благодаря буддийской проповеди оказывалось возможно выделить отдельного человека из родового целого, поставить его один на один с государственной властью. Как указывает В. Н. Горегляд, «Буддизм стал приучать верующих к мысли о существовании объектов культа, общих для многих человеческих коллективов, для человечества в целом, для всего сущего... Сознание людей постепенно приучалось и к восприятию крупных масштабов религии, единой для всей страны. Это не вытесняло местные культы, но наряду с ними объективно помогало в распространении синтоистским жречеством культа общеяпонских ками, в частности, мифологических предков царствующего рода и, следовательно, в укреплении авторитета центральной власти» [Горегляд 1982, 132].
В храмах переписывали и читали сутры. Когда впервые появились японские комментарии к ним? По преданию, еще Сё:току-тайси читал и толковал «Сутру о цветке лотоса чудесной дхармы» (***, «Мё:хо:рэнгэ-кё:», она же «Лотосовая сутра»). Ему же приписывают «Толкования смысла трех сутр» (***, «Сангё: гисё»). Кроме «Лотосовой сутры», в этот список входят «Сутра о царице Шримале» (***, «Сё:ман-гё:») и «Сутра о Вималакирти» (***, «Юима-гё:»). Едва ли текст «Толкования...» действительно принадлежит Сё:току-тайси [Игнатович 1987, 88-90], однако известно, что в конце VI в. уже было распространено публичное чтение вслух и толкование сутр. Такие действия мыслились как «вращение колеса Закона», благодаря которому государство, община, отдельный человек может получить помощь будды. Особое значение в Японии приобрели «три [283] сутры, служащие для защиты страны» (***, гококу самбуке:). Это «Лотосовая сутра», «Сутра золотого света» «Конко:мё:-кё:») и «Сутра о человеколюбивом государе» (***, «Нинно:-кё»). [Игнатович 1987, 110-411]. Из «Лотосовой сутры» прежде всего была взята мысль о конечном равенстве всех людей, о возможности просветления для каждого. Согласно «Сутре золотого света», процветание страны обеспечивается тем, когда государь чтит будду через саму эту сутру, то есть слушает ее чтение и толкование или сам переписывает ее, а также произносит формулы-дхарани, взятые из нее, призывает на помощь «стражей Закона», почитает монахов, помогает храмам. В «Сутре о человеколюбивом государе» описан обряд, по которому следует чтить эту сутру: в него входят обустройство места для чтений, установка там изображений будд и бодхисаттв, одаривание монахов и др. Обряды чтения «трех сутр» включали в себя отдельные элементы «тайного» буддизма [Мацунага 1971, 112], например, произнесение дхарани как заклинаний. Кроме сутр бытовали также и трактаты: становление первых буддийских школ в Японии связано прежде всего с ними (см. ниже).
В 741 г. государь Сё:му во время мятежа Фудзивара-но Хироцугу (см. выше) издал указ о возведении в каждой провинции храмов (одного с двадцатью монахами, другого с десятью монахинями), об установке там статуй будд и о чтении сутр, «защищающих страну». Молиться надлежало о предках государя, о предках рода Фудзивара, о верных сановниках, о благоденствии нынешнего государя, его родичей, Фудзивара, Татибана и других семей, об их благом перерождении после смерти, о карах дурным господам и мятежным подданным, о должном порядке отношений между земными и небесными божествами и о том, чтобы те сообща «защищали страну». [Игнатович 1987, 114-115].
Буддийская община Японии подчинялась особому «Надзорному управлению» (***, Гэмбарё:), ведомству в составе «палаты Знати и церемоний». Общиной руководили такие должностные лица как «распорядитель над монахами» (***, яп. со:дзё:), «глава монахов» (***, яп. со:дзу), а также «учитель устава» (***, яп. рисси) - все они были монахами. В каждом храме был «наставник, сидящий на верхнем месте» (***, яп. дзё:дза), выбранный из самих монахов, «хозяин храма» (***, яп. дзисю), назначавшийся сверху, и «смотритель» (***, яп. ина, от санскр. karmadana), главный по административным вопросам [Игнатович 1987, 120]. Посвящение в монахи совершалось только по государственному разрешению, все стороны монашеской жизни строго регулировались законом [Тайхо:рё:, 65-73] - при том, что у монахов был, разумеется, и свой устав (санскр. vinaya), обозначавшийся тем же словом рицу (кит. люй), что и светское уголовное законодательство.
«Уложение о монахах и монахинях» (***, яп. Со:нирё:) из «Законов годов Тайхо:» запрещало монахам толковать предзнаменования о [284] государе (ст. 1), заниматься гаданием, раздачей заговоренных предметов (оберегов и пр.), а также врачеванием - кроме тех случаев, когда для выздоровления больного читались сутры (ст. 2). Запрещалось уходить из монашества без разрешения столичного или провинциального начальства (ст. 3), непочтительно вести себя по отношению к «трем сокровищам» - будде, учению и общине (ст. 4), устраивать молельни вне храмов (ст. 5). Дозволялось набирать послушников из числа несовершеннолетних родичей монаха, но по достижении ими семнадцатилетнего возраста следовало отправлять их домой (ст. 6). За употребление монахами и монахинями мяса или вина налагалось покаяние на 30 дней, кроме тех случаев, когда запретную пищу и питье принимали для лечения от болезни. За пьяное буйство надлежало возвращать в мир (ст. 7). Разбор происшествий в пределах храмов находился в ведении самих храмов (ст. 8). Монахам и монахиням запрещались музыка и азартные игры (ст. 9), дозволялось одеяние только определенных цветов, а мирское платье запрещалось (ст. 10). Наказанию подлежали монахи, допускающие в свое храмовое жилище женщин (ст. 11), а также те, кто посещает монахинь с иной целью, нежели для совместного проведения обряда или изучения книг (ст. 12). Отшельничество в горах допускалось только по разрешению начальства с уведомлением столичных властей (ст. 13). На высшее руководство общиной полагалось назначать людей добродетельных и деятельных, за выдвижение дурного человека несла ответственность монашеская община, его выдвинувшая (ст. 14). В качестве покаяния предписывалось назначать монахов и монахинь на работы по уборке, отделке, починке храма (ст. 15). За передачу своего монашеского имени другому лицу следовало возвращать монаха или монахиню в мир и судить их уже по уголовному уложению (ст. 16). Монахи и монахини могли посещать государственные учреждения и временно выступать как миряне на судебных разбирательствах, но только при особых условиях (ст. 17). Им запрещено было приобретать частное имущество (ст. 18). При встрече в пути с чиновниками высоких рангов монахам и монахиням надлежало «скрываться» (ст. 19). О смерти монахов и монахинь следовало докладывать наместнику провинции каждый месяц, а он раз в год сообщал эти сведения в Государственный совет (ст. 20). Применение уголовного уложения к монахам строилось по особым правилам; монах или монахиня не могли судиться с другим монахом, монахиней или с храмовым начальством (ст. 21). За тайное пострижение несли ответственность и сам монах (монахиня), и те, с чьего попустительства это произошло, в том числе руководство храма, а также те монахи или монахини, кто принимал самочинного монаха у себя или чем-то помогал ему (ст. 22). Передача мирянам сутр или изображений будд, бодхисаттв и др., а также проповеди в домах у мирян наказывались покаянием в 100 дней (ст. 23). Рабы, принявшие монашество, подлежали возвращению в мир и поступали к прежнему хозяину, за исключением случаев, когда раб, тайно постригшийся в монахи, [285] знал буддийские книги (ст. 24). Наказанием за нарушение покаяния служила высылка во внешние провинции (ст. 25). Мирянам запрещалось во время праздников дарить храмам рабов, скот, лошадей и оружие (ст. 26). Монахам и монахиням запрещалось совершать самоубийство, в том числе самосожжение, пособники в этом несли наказание по уголовному уложению (ст. 27). Таким образом, «Уложение...» всячески подчеркивало, что монашество - это некоторого рода служба, и какая бы то ни было самодеятельность здесь неуместна. Наказанием служили работы на срок от 30 до 100 дней или возвращение в мир.
Поступить в монахи («выйти из дому») возможно было, только пройдя испытания: на монахов была установлена квота 10 человек в год. Но по особым случаям бывали и внеочередные посвящения, например, после успешных молений о выздоровлении государя, о рождении наследника, о дожде и т. п. На испытаниях новичок должен был показать, что умеет читать вслух отрывки из «Лотосовой сутры», «Сутры золотого света» и всю «Сутру о Вималакирти», знает наизусть один свиток из «Сутры о будде Якуси», главу о бодхисаттве Каннон из «Лотосовой сутры» (гл. XXV) и «Сутру-сердце праджня-парамиты» [Игнатович 1987, 122]. Позднее требования к подготовке монахов еще более усложнились.
Учение буддизма, проникшее в Японию, было так же разнообразно, как и на материке. Были здесь и сторонники учения о «чистой земле» будды Амиды, и о грядущем «веке конца закона» и пришествии Майтрейи. Из буддийских школ первой в Японию проникла в 625 г. школа Санрон (***, кит. Саньлунь, «Школа трех трактатов»), опиравшаяся на три текста: «Трактат о срединности» (***, яп. «Тю:рон»), «Трактат о двенадцати вратах» (***, яп. «Дзю:нимон-рон»), «Трактат-сотня» (***, яп. «Хяку-рон»). Санрон разрабатывала учение махаяны о «пустоте» и о «срединном пути» (соотв. «шуньявада», «мадхьямика»). В 657 г. До:сё основал школу Хоссо: (***, кит. Фасян, «Школа облика дхарм»), продолжавшую другое направление махаяны - йогачару с ее учением о «восьми сознаниях»: пять из них соответствуют внешним чувствам, шестое - «сердцу», седьмое - «мысли», а восьмое, «алая-виджняна», мыслится как вместилище «семян» всех дхарм (о «дхармах» см. ниже, гл. 4). В 660 г. Тицу основал школу Куся (***, от санскр. kosa), развивавшую положения трактата Васубандху «Абхидхармакоша». В 673 г. одно из ответвлений школы Санрон получило название Дзё:дзицу (***, от названия сочинения Харивармана «Трактат о достижении истины» яп. «Дзё:дзицу-рон»). В 674 г. китайский монах Цзяньчжэнь учредил в Японии школу Рицу (***, кит. Люй, «Школа устава»), изучавшую буддийский устав (виная). В 736 г. Даосюань, также прибывший из Китая, основал в Японии школу Кэгон (***, кит. Хуаянь, от названия «Сутры о величии цветка», кит. «Хуаянь-цзин», яп. «Кэгон-кё:») - она учила о единстве неизменно-истинной природы будды и изменчиво-помраченной природы живого существа, об их взаимопроникновении. Школы Санрон, Хоссо:, [286] Куся, Дзё:дзицу, Рицу и Кэгон собирательно называют «Шестью школами времен Нара».
Влияние буддийского монашества в Нара было велико. Наиболее известный пример тому - деятельность монаха До:кё: (***, ум. 772). В 761 г. он был приглашен к заболевшей бывшей государыне Ко:кэн (***, 718-770) как искусный врачеватель, вошел к ней в большое доверие, вернул ее на престол под новым именем Сё:току (***), получил должность «великого министра в монашестве», а потом и «государя Закона». В 769 г. разошлась весть о знамении: будто бы бог Хатиман из храма Уса, что на острове Кю:сю:, изрек, что До:кё: должен стать государем. Для проверки этого предсказания в храм Хатимана послали Вакэ-но Киёмаро (***, 733-799), и ему бог отвечал уже иначе: не бывать подданному государем, неправедного же следует изгнать. Но До:кё: и после этого оставался у власти, и лишь после смерти государыни все-таки был изгнан из столицы государем Ко:нин (***, 709-781). Считается, что этот случай, как и вообще сила влияния монахов в Нара, побудили сына Ко:нин, государя Камму (см. ниже, гл. 2), перенести столицу сначала в Нагаока, а потом в Хэйан, предписав буддийским храмам остаться в Нара.
Были в буддийской общине и другие деятели, далекие от светской власти. Гёги (***, 668-749) при жизни прославился в народе как бодхисаттва, странствовал по дорогам и проповедовал, часто действовал вразрез с «Уложением о монахах...» - зато основывал храмы, побуждал народ к таким трудам, как строительство мостов, запруд, переправ, пристаней, каналов. Его деятельность осуждали власти, но в конце жизни он получил чин «великого со:дзё:». Другой прославленный монах, Эн-но гё:дзя (***, он же Эн-но Одзуну ***, 634 - после 701), считается основателем горного отшельничества в Японии. Его ссылали, возвращали из ссылки, позднее признали бодхисаттвой, а при жизни считали чудотворцем. Монашеская жизнь в горах предполагала не только совершение обрядов, общение с бодхисаттвами и буддами, но включала в себя и даосские элементы (в том числе целительство и пр.). Постепенно возникал путь горного подвижничества (***, Сюгэндо:) - соединение даосизма, местных шаманских культов и буддийского «тайного учения» [Мацунага 1971, 111]. Видимо, к этому направлению принадлежали и те самочинные монахи (***, сидосо:), с которыми некоторое время общался Ку:кай. В основном именно в этой среде и бытовали даосские тексты и практики. Но бывали случаи, когда в занятиях «левым путем», то есть вредоносной магией, обвиняли и высших лиц государства. Это произошло, например, в 729 г. с государевым родичем и левым министром Нагая (***), который, окруженный в своей усадьбе, покончил с собой. [287]
Другие памятники камбун
О том, насколько буддийская проповедь успела соединиться с народными верованиями, можно судить по «Записям о чудесах дивных воздаяния прижизненного за добрые и злые дела, случившиеся в стране Японии» (***, «Нихонкоку гэмпо: дзэнъаку рё:ики»), они же «Японские легенды о чудесах» (***, «Нихон рё:ики»), см. [Нихон рё:ики]. «Записи...» были составлены в конце VIII - начале IX в. (тогда же, когда Ку:кай работал над «Тремя учениями»). Это собрание рассказов, где мысль о карме, о неизбежности воздаяния проводится на примерах - сюжетных, занимательных, очень часто привязанных к дате и месту, но содержащих в себе множество мотивов из добуддийских японских преданий (таковы рассказы о поимке божества грома и др.). Многие рассказы в «Нихон рё:ики» предостерегают от жестокого обращения с людьми и с животными, от непочтения к монахам, повествуют о чудотворной силе изображений будд, свитков сутр, о великой мощи буддийских молений.
Между «Нихон рё:ики» и «Санго: сиики», на первый взгляд, мало пересечений: разные жанры, разные подходы к буддийскому учению. Общее между двумя памятниками то, что к изложению истин, связанных с учением будды, привлекается обширный «внешний» материал. Сам по себе этот материал весьма разнороден, а единство повествования задает его общая буддийская направленность.
Несколько слов нужно сказать и о поэтических собраниях, составленных в Японии в эпоху Нара. Самое знаменитое из них - это, конечно, «Собрание десяти тысяч листьев» (***, «Манъё:сю:», середина VIII в., см. [Манъёсю]). В него вошли песни на японском языке. Некоторые из них принадлежат поэтам, известным по имени, другие анонимны, но все так или иначе входят в ту поэтическую традицию, которая возникла в Японии задолго до появления письменности. Существовали и собрания «китайских стихов» (***, яп. канси): первым из них были «Милые ветра и морские травы [поэзии]» (***, «Кайфу:со:», 751 г.). В него вошло 120 стихотворений, выдержанных в китайском жанре ши (***): 19 из них принадлежат людям из семьи Фудзивара. Как и в «Санго: сиики», в стихотворениях «Кайфу:со:» прослеживается влияние китайской поэзии эпохи Шести династий; многие отсылки восходят к стихам из «Литературного изборника» (***, кит. «Вэньсюань»), из собрания «Изящная словесность» и др. Темы стихотворений, составленных в основном по поводу того или иного события придворной жизни, - это восхваления государей, описания государевых пиров, выездов и др. Здесь почти нет стихотворений о любви, но часто речь идет о дружбе, в частности - о неизбежном расставании друзей (как и в «Санго: сиики», в «Песни о непостоянстве», которую поет Камэй-Коцудзи) [Мещеряков 1991, 59 и далее]. В более поздние собрания китайских стихов, составленные уже при государе Сага в начале IX в., вошли стихотворения [288] Ку:кай - слава его как поэта и каллиграфа при жизни едва ли не превосходила его славу как буддийского учителя.
Летописи и деловые документы, законы и храмовые записи, предания и стихи - всё это памятники камбун, ранней японской словесности, возникшие раньше книги Ку:кай о «Трех учениях». Такова «большая» предыстория «Само: сиики». Но есть и «малая» - всё, что связано с автором книги. Об этом речь пойдет в следующей главе.
Глава 2. Автор
Историки дальневосточной словесности часто отводят книге «Санго: сиики» место первого автобиографического сочинения, составленного на Японских островах. В самом деле, во «Введении» Ку:кай кратко описывает свою жизнь до 797 г.: ученье в доме дяди и в столичном Училище, знакомство с бродячим монахом, чтение одной из буддийских сутр, уход из дому, странствия, споры с родней о том, какой путь ему выбрать - чиновничий или монашеский. Здесь же упомянут и «племянник, сын сестры», в назидание кому Ку:кай в 826 г. взялся переработать свое раннее сочинение. Кроме того, считается, что предыстория монаха Камэй-Коцудзи в третьем свитке «Санго: сиики» также содержит несколько автобиографических отсылок. Так, отвечая на вопрос о своей родине, монах не напрямую, но все-таки достаточно ясно указывает местность Бёбугаура в уезде Тадо в земле Сануки на острове Сикоку, где, как известно, родился и Ку:кай. Описывая странствия «нищего с временным именем», автор тоже явно имеет в виду свой собственный опыт. А в беседе монаха с не названным по имени собеседником, который упрекает Камэй-Коцудзи в утрате «верности и почтительности», находят отражение нареканий «многочисленной родни» и тех доводов, которыми сам Ку:кай оправдывал свой уход в монахи. Во многом именно из-за такой автобиографичности «Санго: сиики» называют первым авторским произведением, написанным в Японии [Фесюн, 59].
Вопрос о роли автора
Что считать началом собственно авторской литературы? То ли, когда пишущий впервые начинает говорить от себя, а не от лица какого-то сообщества (рода, храма, государства)? Или то, когда автор отделяется от героя? Первое в «Санго: сиики» достаточно очевидно: книгу эту пишет Ку:кай, [289] и всё дальнейшее включено в текст постольку, поскольку имело значение именно для него, для его жизненного выбора. Хотя, читая комментарий к «Санго: сиики», легко возразить: что же это за авторский текст, если весь он собран из чужих слов - и не просто из цитат, а по большей части из расхожих общих мест? В этом смысле Ку:кай - почти такой же автор, как составитель поэтического собрания, сводящий в одну книгу некоторое число стихотворений, значимых лично для него. Только единица коллекционирования здесь мельче: не целое стихотворение, а строчка, часть строчки, одно слово - но такое, чтобы читатели сразу вспомнили, откуда оно. Или задумались: откуда бы могла быть взята эта цитата? Художественная и научно-популярная литература конца XX в., кажется, приучила читателя к тому, что подобный способ быть автором возможен, и даже вполне обычен. Наоборот, попытки новизны, личного голоса, «авторства» в европейской классике представляются исключением. Традиция Дальнего Востока - и не только она, а чуть ли не вся словесность за пределами «Запада» - подтверждает правило: люди пишут не затем, чтобы сказать что-то новое, а чтобы повторить то, что следует повторить.
С другой стороны, можно спросить: чем-то ведь отличается одна коллекция цитат от другой? Пусть даже отбирается не просто однажды сказанное, но то, что однажды (а лучше, многократно) было уже и процитировано - так, собственно, и создаются «общие места». И все-таки есть у составителя книги какие-то предпочтения, говорящие хотя бы о его круге чтения, о его читательской биографии? Получается, что автор все равно выступает от имени коллектива: от сообщества авторов прочитанных им сочинений, запомнившихся ему персонажей. Но для Ку:кай этот условно мыслимый коллектив еще и достаточно далек: это поэты и писатели, трудившиеся в Китае, и к тому же не в одной, а в разных эпохах, от древности и до самых недавних лет. Общего у них - едва ли не только вэнь, китайская словесность, их настоящий, материковый камбун. И войти в их круг можно лишь одним способом: составив свою книгу. Чем лучше получится коллекция, тем больше вероятность, что в дальнейшем многих из них будут цитировать уже через нашего составителя, по его подборке. Или не поддержат его вкусов и возьмутся за составление своей коллекции - но так или иначе словесность, вэнь, будет расти дальше. А что лучшего автор может сделать для своих предшественников?
Но чтобы из отдельных цитат получилась связная подборка, нужно что-то еще, какое-то объединяющее начало. В «Санго: сиики» это сюжет, развертка текста по ролям. А это значит, что в книге действуют заведомо сочиненные, придуманные лица. Такого в Японии в самом деле еще не было. Если в летописях, храмовых записях или даже в легендах о чудесах и появляются какие-то персонажи, чья невыдуманность сомнительна, - то сомнительна она для новейших исследователей. А в тексты их включали как раз потому, что такие люди если и не были, то должны были быть в [290] названное время в названном месте. Но в «Санго: сиики» уже из имен персонажей ясно: таких людей не существует, как не бывало никогда зубов у пиявок и шерсти у черепах. Как мы еще увидим в главе 3-ей, само построение книги, как и выбор имен для ее героев, тоже следуют почтенным китайским образцам. Однако в ряду ранней японской словесности «Санго: сиики» выделяется именно наличием сюжета: не пересказанного по другим книгам или по устным преданиям, а заведомо выдуманного, не существующего нигде кроме рамок данного сочинения.
О:-но Ясумаро начал предисловие к первой японской летописи, «Кодзики», словами: «Я говорю, Ясумаро». Но о себе он в этом предисловии сказал лишь то, что важно знать о нем как о летописце: где, когда, по чьему повелению, с чьей помощью, с какой целью и пользуясь какими средствами записи он вел свою работу [Кодзики I, 29-35]. Во второй летописи, «Нихон сёки», предисловия от составителей вовсе нет. Если их присутствие в чем-то чувствуется, то в том, как один и тот же рассказ о древних временах приводится в нескольких вариантах, - есть, стало быть, кто-то, для кого существует не единственная истина, а несколько по-разному важных ее изложений. Не касаясь здесь такой обширной темы, как авторские предисловия в ранней и классической японской словесности, я сошлюсь еще на «Нихон рё:ики». Составитель, монах Кё:кай, во вступлении к первому свитку называет свой храм (Якусидзи в Нара), высказывает причины, побудившие его взяться за повествование о «чудесах земли своей». Он подобающим образом сетует на собственную слабость перед лицом трудной задачи, говорит, чего он ждет от своей книги: чтобы увидевший ее отвратился от порока и стал жить праведно. Предваряя второй свиток, Кё:кай снова называет свой храм, снова сокрушается о несовершенстве своего сочинения, снова призывает читателя «вместе шествовать дорогой Будды». Почти то же повторяется и в начале третьего свитка [Нихон рё:ики, 34-35, 101-102, 171-172].
Во введении к «Санго: сиики» есть похожие, но заметно более краткие указания на чувства автора, решившегося взяться за кисть: «Я изливаю человеческую скорбь - как же мне не высказать моих побуждений?» (В 9-10), «Всё это лишь выражает мое беспокойство, тревогу и гнев» (В 64). Еще одно замечание - «Разве хотел я, чтобы это предстало очам других людей?» (В 65) - напоминает уже о последующей традиции, о дневниках и записках «вслед за кистью», то есть о сочинениях уже очевидно авторских, написанных не «для всех», а для себя или для ближайшего окружения.
Завершая отступление по поводу слова «автор» применительно к «Санго: сиики», я позволю себе выдержку из книги А. Н. Мещерякова «Древняя Япония: культура и текст» (1991 г.), где речь идет о японской словесности VIII-XIII вв.: «Мозаичность, т. е. составление текста из уже готовых элементов, должна быть признана наджанровым принципом текстового сознания интересовавшей нас в данной книге эпохи. Этот принцип справедлив и для исторических хроник, и для поэзии, и для религиозно-философских [291] сочинений, и для сборников буддийской прозы. Текст, таким образом, не входит в границы личности, не принадлежит ей. С другой стороны, любой текст принадлежит любой личности в смысле ее права на переделку (перебелку) (если, разумеется, эта личность входит в потенциальную аудиторию данного класса текстов). "Составленность" письменного текста равняется его санкционированности <...>» [Мещеряков 1991, 210-211].
Итак, разговор о биографии автора имеет смысл постольку, поскольку помогает выяснить его «потенциальную аудиторию»: обозначить прижизненное окружение того человека, кто выступил составителем текста, проследить историю его знакомства с источниками, которые он цитирует, и с теми людьми, с чьей подачи он начал читать эти книги.
Ку:кай и его жизнеописания
Я начну с небольшого обзора источников. Главный из них, наряду с «Санго: сиики», - это «Слово-завещание в двадцати пяти статьях» (***, «Нигодзё: гоюйго:»). Оно датируется пятнадцатым днем третьей луны второго года Сё:ва (835), Ку:кай продиктовал его ученикам за несколько дней до смерти. Первая статья перечисляет важнейшие деяния учителя. Она, вероятно, была написана не им самим, а учениками [Канаока, 10-11, 78-79]. В следующих статьях Ку:кай назначает Дзицуэ (***, 785-847) своим преемником в качестве главы школы и отдает распоряжения по храмам школы Сингон. В основном сведения из «Слова-завещания...» не расходятся с теми, какие можно извлечь из «Санго: сиики», а кое в чем дополняют их.
Большинство позднейших биографий Ко:бо:-дайси так или иначе исходят из «Слова-завещания». Канаока Сю:ю:, исследователь творчества Ку:кай, выделяет среди них две наиболее характерных [Канаока, 10] 1. Первая - это «Ку:кай со:дзу-дэн» (***) в одном свитке, датируется вторым днем десятой луны второго года Сё:ва (835). Составитель этого текста - Синдзэй (***, 800-860), монах школы Сингон, один из ближайших учеников [292] Ко:бо-дайси. В название входит слово со:дзу (***), «старший над монахами»: таковым Ку:кай являлся для приверженцев школы Сингон независимо от других своих чинов. Второе жизнеописание, «Дайсо:дзу Ку:кай-дэн» (***), было создано несколькими летописцами-мирянами во главе с Фудзивара-но Ёсифуса (***, 804-872) - составителями «Продолжения Поздних анналов Японии». К третьей луне второго Сё:ва в этой летописи отнесено сообщение о кончине Ку:кай, далее приводятся основные сведения о его жизни. Здесь Ку:кай назван дайсо:дзу, «великий глава монахов»: Ку:кай получил этот чин, высший в японской буддийской общине, в 827 г.
Позднее в школе Сингон появилось множество других жизнеописаний Ко:бо:-дайси. Общая их черта в том, что для них Ку:кай - это прежде всего основатель школы «Истинных слов» в Японии, продолжатель «тайного учения», идущего через Китай из Индии, великий подвижник, просветитель, один из крупнейших деятелей японской буддийской общины за все века ее существования. Соответственно, поздние годы жизни Учителя в этих источниках освещены гораздо подробнее, чем ранние. А кроме жизнеописаний (***, дэн) существуют также «предания» (***, дэнсэцу). Многие из них связаны с местными храмами в тех землях, где, как считалось, странствовал в свое время Ку:кай, в том числе и там, где он, скорее всего, бывать не мог (например, на севере острова Хонсю:). В преданиях Ко:бо:-дайси выступает как чудотворец, чья подвижническая сила действует не только на людей, но и на божества-ками. К образу автора «Санго: сиики» эти источники прибавляют не слишком много достоверных сведений. Зато в них видно, какими, по мнению позднейших поколений, должны были быть молодые годы Ко:бо:-дайси: ведь невозможно, чтобы еще с самого детства этот человек не был отмечен приметами будущего великого учителя 2. [293]
Очерки о Ко:бо:-дайси неизменно входят в учебники по истории буддизма в Японии, как японские, так и рассчитанные на западного читателя, и в серии биографий великих деятелей японской культуры 3. Хотелось бы назвать здесь также роман-исследование Сиба Рё:таро: (***) 1978 г. [Сиба]. Заглавие этой книги, «Ку:кай-но фу:кэй», трудно поддается переводу. В библиографии к изданию [Буддизм 1993, 686] оно передано как «Ку:кай и его окружение». Но в то же время это и «Вид на небо и море», коль скоро имя Ку:кай пишется двумя иероглифами: «небо» (***) + «море» (***), и «Ку:кай и его ландшафт».
В последнее десятилетие XX в. Ку:кай также не мог не привлечь к себе внимание как автор, дающий повод для жизнеописаний в самых разных жанрах. Любопытна, например, иллюстрированная книжка-манга с текстами Хиро Сатия и рисунками Кайдзука Хироси [Ку:кай-но сё:гай], изданная в 1994 г. Здесь, с расчетом на молодого читателя, большое внимание уделено школьным годам Ко:бо:-дайси, причем воспроизведены соответствующие эпизоды из «Введения» к «Санго: сиики» - включая «пронзание бедра шилом», что никак не может служить образцом для прямого подражания. В сети Интернет материалы, связанные с жизнью и учением Ку:кай, представлены на сайтах www.shingon.org, www.koyasan.org и многих других.
На русском языке основные сведения о жизни и учении Ко:бо:-дайси излагались не раз [Мещеряков 1988, 131-146; Буддизм 141-145; Фесюн 40-43; Трубникова 2000, 15-21]. Пример жизнеописания Ку:кай, составленного в наши дни приверженцем буддийского «тайного учения», можно найти в книге Икэгути Экан «Подвижник огня», переведенной на русский язык [Икэгути, 80-91]. Исследования, на которые я буду опираться, - это в основном очерк Канаока Сю:ю:, посвященный тому периоду, когда Ку:кай составлял «Санго: сиики» [Канаока, 7-29], а также [Хакэда], [Мацунага 1974] и др.
Происхождение
По отцу Ку:кай происходит из рода Саэки (***). Первое упоминание этого семейства в «Анналах Японии» относится к весне пятого года государя Нинкэн (492 г.): «...по всем провинциям и уездам был объявлен розыск рассеявшихся по стране людей рода Сапэки-бэ. Потомки Сапэки-бэ-но Накатико стали Сапэки-бэ-но миятуко» [Нихон сёки I, 390]. В следующий раз род Саэки (=Сапэки) упоминается в свитке государя Бидацу (св. XX, [294] 13-14-ый годы, 584-585) в связи с гонениями на буддизм. Говорится, что некий Сапэки-но Мурази привез из Пэкче статую Будды [Нихон Секи II, 77]. А в следующем году при сожжении храма, основанного Сога-но Умако, главный гонитель буддистов, Мононобэ-но Мория, приказывает некому Сапэки Миятуко Мимуро доставить на расправу монахинь, которым Сога-но Умако оказывал покровительство [Нихон Сёки II, 78] - ср. выше, гл. I. В следующем, XXI свитке (государь Сусюн, 1-ый год, 587) в числе сподвижников Сога-но Умако в его борьбе против родов Мононобэ и Накатоми упомянут Сапэки-но Мурази Нипутэ [Нихон Сёки II, 84]. В свитке государыни Ко:гёку (св. XXIV, 4-ый год, 645) Сапэки-но Мурази Комаро назван как один из убийц Сога-но Ирука [Нихон Сёки II, 138-139]. В следующих свитках «Нихон сёки» говорится еще о нескольких лицах, носивших прозвание Сапэки-но Мурази (Саэки-но Мурадзи, ***). В частности, в перечне наиболее преданных сподвижников государя Тэмму (1-ый год, 672) Сапэки-но Мурази Опомэ появляется вместе с Ато-но Мурази Титоко - представителем рода Ато, к которому принадлежала мать Ку:кай [Нихон Сёки II, 210]. При государе Тэмму Саэки-но Мурадзи были пожалованы титулом Сукунэ (***).
Всюду здесь Саэки (Сапэки), как и Ато, - это удзи, родовое имя, а Мурадзи (Мурази, ***) и Сукунэ - кабанэ, наследственные титулы, жалуемые государем (см. выше, гл. 1). Есть предположение, что исходно Саэки происходили из эдзо (***), - одного из племен, чужих Ямато и покоренных им. Позднее потомки рода Саэки обитали в землях Харима, Сануки, Ава и Аки, то есть на острове Сикоку и ближайшей к нему части острова Хонсю:, и занимали там должности куни-ни мияцуко [Канаока, 8]. Как следует из «Анналов Японии» и других источников, наиболее сильной и близкой к центральной власти ветвью рода Саэки были Саэки-но Мурадзи. Сам Ку:кай происходил из другой ветви, Саэки-но Атаи (***) из земли Сануки. Из этой же ветви рода вышло позднее несколько учеников Ко:бо:-дайси, в том числе Синнэн (***, 804-891). После смерти Ку:кай родичам его отца был пожалован титул Сукунэ.
В конце VIII в. в роду Саэки наибольшую славу снискал Саэки-но Сукунэ Имаэмиси (***, ок. 717-790). Он был одним из руководителей работ по переносу столицы из Нара в Нагаока в 784 г., а позднее подготавливал и строительство новой столицы, Хэйан. В 775 г. он был назначен главой посольства в Тан, но перед самым отплытием занемог и в Китай не поехал. Точно не известно, встречался ли сам Ку:кай с этим своим родичем, но весьма вероятно, что именно заслуги Саэки-но Имаэмиси были учтены при приеме юноши из семьи «провинциальных» Саэки-но Атаи в Училище.
По матери Ку:кай происходил из рода Ато (***). Вероятнее всего, восходил этот род к потомкам переселенцев из Кореи. Среди предков матери Ку:кай был тот самый Вани (Ванъин) из Пэкче, которого государю [295] О:дзин рекомендовали как лучшего знатока китайских книг (ср. выше, гл. 1). Брат матери, Ато-но О:тари (***) был, как мы уже знаем из «Введения» к «Санго: сиики», наставником государева сына. Государь этот - Камму (***, 737-806, прав. 781-806). Имя его сына, которого обучал Ато-но О:тари, третьего по старшинству - Иё (***). Возможно, Ку:кай был знаком с Иё. После смерти Камму Иё, заподозренный в заговоре, вместе со своей матерью совершил самоубийство в храме Кавахара-дэра (***, впоследствии Гуфуку-дзи, ***) в одиннадцатой луне 807 г. В 810 г. Ку:кай написал ему надгробное слово, оно сохранилось в собрании стихотворений «Сё:рё:сю:» (***) в свитке шестом.
Отцом государя Камму был государь Ко:нин, матерью - Такано-но Ниигаса, происходившая из рода государей Пэкче. Видимо, помня свое материковое родство, Камму оказывал особое покровительство выходцам из переселенческих семей, в том числе и Ато-но О:тари, а позже и его племяннику. Надо сказать, что и Сайтё:, будущий основатель школы Тэндай, тоже происходил из рода переселенцев: дальним его предком, как считается, был государь Сяо Сянь-ди из династии Поздняя Хань. С другой стороны, Канаока Сю:ю: отмечает, что и Ку:кай, и Сайтё: принадлежали к той части общества, чье положение в Японии, при всей благосклонности государей, никогда не соответствовало статусу, какой их предки когда-то имели у себя на родине [Канаока 9-10]. Путь к светской власти для них заканчивался на достаточно невысокой ступени чиновной лестницы, и отчасти поэтому полем их деятельности стала буддийская община [Мещеряков 1988, 132].
Место рождения, дата рождения и мирское имя
Итак, Ку:кай родился в семье Саэки-но Атаи в земле Сануки на острове Сикоку, в уезде Тадо, в местности Бёбугаура. Согласно системе «Рицурё:», эти края относятся к «Нанкайдо:», «Пути вдоль южного моря» (см. карту). В отличие от острова Кю:сю:, относительно обособленного, отчасти населенного еще не замиренными племенами хаято, Сикоку в это время - в целом уже «японский» остров. Но такие его земли, как Ава и Тоса, в начале VIII в. еще считались «дальними» по отношению к столичной области [Сахарова, 95], туда отправляли в ссылку. Земли Иё и особенно Сануки были уже более или менее освоены государственной властью. Сануки, остров Авадзи и земля Харима на острове Хонсю: составляют так называемое побережье Сэтонайкай (***), которому посвящены многие из стихотворений «Манъё:сю:» [Симонова-Гудзенко, 108-109]. Земли Сикоку славились не только своими берегами и «жемчужными водорослями», но и горами. Об отшельничестве в тамошних горах речь пойдет ниже. [296]
Дата, когда родился Ку:кай, вызывает некоторые споры. Общепризнанно, что это был пятнадцатый день шестой луны. Что до года, то, согласно «Продолжению поздних анналов Японии», это «бык - младший брат воды», четвертый год Хо:ки, то есть 773 г. Позднейшая школьная традиция говорит о следующем годе, «тигре - старшем брате дерева», пятом годе Хо:ки, то есть о 774 г. Этой второй дате следует большинство современных биографов. Все расчеты возраста ведутся с учетом того, что первый год жизни - это неполный год, проведенный в материнской утробе.
В традиции считается, что Ку:кай носил мирское имя Мао: (иначе Мауо, ***). Однако в ранних жизнеописаниях оно не встречается. Канаока Сю:ю: приводит три имени из разных источников [Канаока, 13]. 1. Мао: - детское имя (***, яп. ма, «истинный» + ***, яп. уо, «рыба»). 2. То:томоно (***, яп. то:той, «ценный» + ***, яп. моно, «вещь», «существо») - эти знаки «были выбраны родителями в глубоком сострадании». 3. Синдо: (***, яп. син/ками, «божественный» + ***, яп. то:, здесь «дитя»). Согласно преданию, восьми лет от роду мальчик играл перед домом, и в это время мимо проезжал некий господин: он странствовал, почитая «четырех великих небесных государей», дабы увидеть «божественное дитя». Увидав Мао:, он сошел с повозки, чтобы поклониться ему, ибо понял, что перед ним не простой ребенок, а существо особой природы. После этого в ближней округе мальчика стали называть «божественным дитятей» (Синдо:).
Из этих имен в «Слове-завещании» упоминается То:томоно. В целом же вопрос о мирском имени Ку:кай остается неразрешенным. Известно, что в семье еще было двое сыновей, оба старше Мао:, и оба брата умерли еще детьми - в «Санго: сиики» то же говорит о своих братьях монах Камэй-Коцудзи. По-видимому, была еще сестра и ее сын, тот самый племянник, который своим дурным поведением побудил дядю переработать «Санго: сиики». Но их имена неизвестны.
Столица
Как сказано во «Введении» к «Санго: сиики», подростком Ку:кай отправился в столицу. Здесь снова возникают вопросы: когда это было и о какой столице идет речь. Канаока Сю:ю:, сопоставляя разные жизнеописания, заключает, что под «возрастом обращения к наукам» следует понимать двенадцатый - пятнадцатый годы жизни. Именно в это время Ку:кай начал учиться в доме дяди, где освоил «Книгу сыновней почтительности» и «Беседы и суждения» Конфуция, а также китайские стихи и летописи.
По мнению большинства биографов, «город софоровых деревьев», куда в возрасте восемнадцати лет отправился Ку:кай из дома дяди, - это Нагаока. Государь Камму перенес туда столицу в 784 г. Как известно, [297] строительство Нагаока не было завершено и позднее город исчез. Однако раскопки, начатые в середине 1960-х гг., показали, что эта столица, задуманная по всем китайским градостроительным правилам, возводилась пусть с меньшим размахом, чем Нара и Хэйан, но по похожему плану.
Правда, еще в 784 г., когда со времени начала работ по переносу столицы не минуло и года, произошло событие, повлиявшее и на судьбу столицы, и на судьбу семьи Саэки. Вместе с Саэки-но Имаэмиси работами по возведению новой столицы руководил Фудзивара-но Танэцугу (***, 737-835). В 785 г. он был убит стрелой из лука. Стрелял некий Цугихито (***), действовавший по приказу царевича Савара (***), брата Камму. Схваченный, Цугихито признался, что к убийству его подстрекал не кто иной, как его высокопоставленный родич, О:томо-но Якамоти (***, ок. 717-785), к тому времени уже месяц как скончавшийся. Этот человек, старший в роду О:томо, известен был не только как великий поэт, один из составителей «Манъё:сю:», но и как наследственный враг рода Фудзивара [Горегляд 1997, 73]. Между тем, род Саэки издавна был дружествен роду О:томо, делил с ним как успехи, так и неудачи в продвижении к высоким чиновным должностям [Грачев, 84]. В 785 г. многие члены родов О:томо и Саэки были либо казнены, либо сосланы; царевич Савара укрылся в храме Отокуни-дэра (***) и там уморил себя голодом [Фесюн, 42]. Убийство Фудзивара-но Танэцугу и гибель царевича Савара были истолкованы как зловещие предзнаменования, работы по возведению новой столицы приостановились. А уже в 794 г. государь перебрался в новую столицу, Хэйан (***): этот город, он же Киото, останется столицей Японии более тысячи лет, до 1868 г.
Не ясно, успели ли такие столичные учреждения, как Училище, переехать в Нагаока из Нара, или же нет. Но очевидно, что в Нара с большей вероятностью, чем в Нагаока, юноша из рода Саэки имел возможность познакомиться с буддистами. Еще около 776 г. в Нара близ храма Дайандзи (***) Саэки воздвигли свой «родовой» буддийский храм Саэки-ин (***). Возможно, что кто-то из родичей Ку:кай состоял в этом храме монахом.
О жизни юноши из рода Саэки в годы его ученья в Училище известно немного. В жизнеописаниях приводятся имена двух его учителей. Первый, «наставник-чтец» (***, дзикико:) по имени Умадзакэ-но Киёнари (***) обучал его чтению «Книги песен» и «Книги летописей» (соотв. «Ши-цзин» и «Шу-цзин»). Второй, «знающий муж» (***, хакасэ) по имени Окада-но Усикаи родом, как и Ку:кай, из земли Сануки, проходил с ним «Толкования Цзо Цюмина к "Веснам и осеням"» («Цзо-чжуань») [Канаока, 16, 22, 116-117; Игнатович 1982, 182]. Таким образом, Ку:кай изучал одно «большое» сочинение («Толкования Цзо...»), одно «среднее» («Книгу песен») и одно «малое» («Книгу летописей»). Такой выбор книг соответствовал «Уложению о государственных школах» (см. выше, гл. 1). [298] Любопытно, что при этом из книг не была выбрана ни одна, относящаяся к «обряду» (ли). В те же годы, что и Ку:кай, в Училище обучались Фудзивара-но Фуюцугу (775-826, будущий Левый министр), Фудзивара-но Оцугу (составитель «Поздних анналов Японии», «Нихон ко:ки»), а также О:томо-но Кунимити, Сугавара-но Киёкими и др.
Странствующий монах
Следующие два вопроса также напрямую связаны с «Санго: сиики»: кто был шрамана, странствующий монах, впервые показавший школяру буддийскую книгу, и какой способ быть буддистом предлагала эта книга?
Школьная традиция называет первым буддийским наставником Ко:бо:-дайси «высоко-добродетельного» Гондзо: (***, Гондзо:-дайтоку, 758-827). Здесь, как во многих других случаях, первые жизнеописания не дают точных указаний, упоминая просто «монаха» (шрамана). Но я буду исходить из того, что приверженцы школы Сингон неспроста связали обращение Ко:бо:-дайси на путь будды с именем Гондзо:.
Гондзо:, уроженец земли Ямато, по некоторым сведениям, также принадлежал к потомкам переселенцев. В начале 770-х гг. он принял посвящение в буддийские монахи в храме Дайандзи в Нара - в том же храме, близ которого чуть позднее был выстроен буддийский храм рода Саэки. Гондзо: принадлежал к школе «Трех трактатов» (Санрон), но в то же время был учеником Дзэнги, одного из немногих в тогдашней Японии знатоков «тайного» буддийского учения (см. ниже) и сторонника школы «Мудрости собственной природы» (***, Сидзэнти-сю:) [Мацунага 1971, 112 и 172]. Считается, что в тех же 770-х гг. Гондзо: уже совершал подвижнические странствия на гору Ко:я (***), где позднее Ку:кай основал главный храм школы Сингон. Другое имя монаха Гондзо: - Сэкиэн-со:дзё: ***, «Монах-наставник Каменной Пропасти»; храм, основанный им в начале XI в., назывался ***, Сэкиэн-дзи. [Мацунага 1971, 172; Канаока, 85-86].
Сутра
Книга, о которой говорит Ку:кай во «Введении» к «Санго: сиики», существенно отличалась от тех буддийских сутр, о которых он наверняка знал и ранее. Если «три сутры, защищающие страну» читались в храмах и должны были обеспечить процветание и покой государства, то эта книга подходила к «пользе и выгоде в этом мире» (***, гэндзэ-рияку) с несколько другой стороны и понимала «пользу» еще конкретнее. Школяра не [299] могло не привлечь то, что эта сутра помогает постичь «и письмена, и смысл всех, какие ни на есть, законов и учений», в том числе и конфуцианских книг, над которыми он тогда трудился.
Представление о «книге всех книг», которую одну достаточно прочитать, чтобы понять многие другие книги, в буддизме известно. Например, считается, что «Сутра-сердце праджня-парамиты» (***, «Хання синге:») в свернутом виде содержит в себе весь огромный свод знаний, называемых «праджня-парамитой», «мудростью-переправой» (об этом Ку:кай много позже составит трактат «Тайный ключ к "Сутре-сердцу праджня-парамиты"»). Но способ действия сутры, которую показал школяру странствующий монах, восходил к буддийскому «тайному учению».
Сутра называлась «Закон вслушивания-схватывания, стремления к сердцевинному дхарани, всепобеждающему, всем желанному, полному мощи, принадлежащему бодхисаттве - Чреву Пустого Неба» (***, «Коку:дзо: босацу но:ман сёган сайсё: синдарани гумондзи хо:»). Как видно из названия, книга учила «вслушиванию-схватыванию» (***, мондзи). Предметом «стремления» (***, гу) в ней выступало «заклинание», дхарани (***, дарани), именуемое «полным мощи» (***, но:ман), «всем желанным» (то есть и «для всех людей», и «во всем своем качестве» ***, сёган), «всепобеждающим» (***, сайсё:), и наконец - «сердцевинным» (***, син). Как и в заглавии «Сутры-сердца праджня-парамиты», здесь «сердце» указывает не просто на середину и средоточие, но и на то, откуда может быть развернуто всё остальное «тело», в данном случае - тело буддийского канона. В «Законе... Чрева Пустого Неба» дхарани обращены к бодхисаттве по имени Коку:дзо: (***, Коку:дзо:-босацу). Это имя на санскрите звучит как «Акашагарбха» и означает «Чрево Пустого Неба». Канаока Сю:ю: отмечает, что в 780-ых годах сутра под названием «Закон... Чрева Пустого Неба» уже пользовалась в Японии большой славой [Канаока, 16]. Однако с появлением школы Сингон то обстоятельство, что Ку:кай начал свое обращение к буддизму именно с этого текста, вытеснило почти все другие предания о его бытовании.
«Закон... Чрева Пустого Неба» - сравнительно небольшой по объему текст, он существует в двух китайских переводах. Первый перевод принадлежит наставнику по имени Шань Увэй (***, 673-735), он же Шубхакарасимха, родом из Магадхи в Индии, в Китай прибыл в середине 710-х гг. Заглавие этого перевода я привела выше, в собрании [ТСД] он помещается в томе 20 под № 1145 (с. 601 слл.). Второй перевод выполнил Бу Кун (***, 705-774), он же Амогхаваджра, родом из Средней Азии, трудился в Китае начиная с 720-х гг. Эта версия сутры имеет иное заглавие: «Закон вслушивания-возглашения бодхисаттвы - Чрева Пустого Неба» (***, «Коку:дзо:-босацу нэнсё:-хо:», ТСД 20, № 1146, с. 603 слл.). Ку:кай познакомился с первым из переводов. [300]
Последовательность «передачи закона», согласно школьной традиции Сингон, выглядит так. Сначала сам Шань Увэй передал текст До:дзи (***, ум. 744) - японскому монаху школы Санрон, уже знакомому с «тайным учением». Считается, что первый, точно не известный по имени «монах-кудесник», посвященный в «тайные» обряды» так называемого «старого» и «смешанного» тайного учения (***, кодзо:-мицу), прибыл в Японию из Пэкче в 577 г. До:дзи принадлежал к числу учеников его учеников. Школьное толкование к «Слову-завещанию» Ку:кай указывает, что До:дзи побывал в Китае в первый год эпохи Тайхо: (701 г.), а назад вернулся во второй год эпохи Ё:ро: (717 г.). Шань Увэй завершил свой перевод «Закона... Чрева Пустого Неба» в 716 г., так что До:дзи вполне мог принять сутру от переводчика перед своим отбытием в Японию. Бу Кун же в это время был еще ребенком. Вернувшись на острова, До:дзи передал «Закон...» Гиэну (***, иначе Гиин, ум. 728, принадлежал к школе Хоссо:). Тот вручил сутру своему ученику Дзэнги (***, 725-804, также из школы Хоссо:). А уже тот передал «Закон... Чрева Пустого Неба» своему ученику Гондзо:, бывшему также и учеником Гиэна. Иногда считают, что До:дзи обучал не Гиэна, а Дзэнги.
Что же до предыстории «Закона...», то, согласно школьной традиции, он, подобно другим сутрам «тайного учения», был обретен бодхисаттвой Нагарджуной (***, яп. Рю:мо:). Затем сутру принял Нагабодхи (***, яп. Рюши), проживший, по преданиям, семьсот лет. И уже от него сутра перешла к Шань Увэкю 4. В итоге получается такая схема:
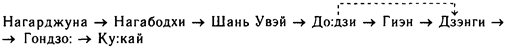
Возвращаясь к спорам вокруг первого учителя Ку:кай, надо сказать, что есть и другая версия передачи «Закона...»: от Нагарджуны через Нагабодхи к Ваджрабодхи (Цзиньганчжи, ***, 670-741, родом из южной Индии, в Китае с 710-х гг.), а далее к Бу Куну, Шань Увэю, И Сину (***, 635-713), и наконец, от Бу Куна к Хуэйго(***, 746-805), у которого Ку:кай учился в Китае (ср. ниже). По этой версии Ку:кай оказывается первым из японцев, приобщившихся к «тайному учению». Но тогда становится неясно, что же за «Закон...» был открыт монахом-странником школяру из Училища. [301]
Бодхисаттва Чрево Пустого Неба
Итак, «Закон вслушивания-схватывания и стремления» («Гумондзихо:») к концу VIII в. был хорошо известен в Японии. Особенно часто к нему обращались сторонники школы Хоссо: [Игнатович 1987, 152]. Обряд, связанный с «Законом...», как следует из «Само: сиики», состоял в том, чтобы 100 раз по 10.000 раз повторить заклинание дхарани 5. Звучит оно примерно так 6:
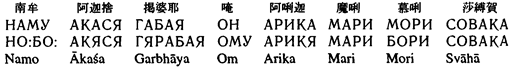
Примерный перевод этой формулы таков: «О, Чрево Пустого Неба, о, подобное цветку лотоса, величавое, незамутненное ясное сияние, да будет так!». Суть здесь, правда, не столько в значении, сколько в самом звучании - из том, как и при каких условиях эту формулу следовало произносить. Заклинание призывает бодхисаттву по имени Чрево Пустого Неба.
Чрево Пустого Неба, Акашагарбха - один из бодхисаттв особенно почитаемых в «тайном учении». Согласно свитку 1-му «Толкования к сутре о Великом Солнце» («Дайнити-кё: со»), составленного Шань Увэем, «Пустое Небо» означает непобедимость, подобную нерушимости неба: его невозможно сокрушить, ибо в нем нет преград. «Чрево» [302] (оно же «Хранилище», «Сокровищница») - вместилище «сокровищ закона». Такое вместилище есть внутри каждого из живых существ. Подобно богачу, раздающему подаяние неимущим, Чрево Пустого Неба источает неизмеримые «сокровища закона», приносит «пользу и радость» всем живым существам. На мандалах бодхисаттва Акашагарбха изображается внутри «мира-чрева» (***, яп. тайдзо:-кай, санскр. garbha-dhatu) как глава «палаты Пустого Неба» (коку:до) в западной части мандалы [Трубникова 2000, 348]. Бодхисаттва восседает на цветке лотоса, на голове у него «венец пяти будд», в правой руке сияющий меч, левая держит лотос на стебле, над лотосом виден «драгоценный камень» чинтамани. Из небесных светил Акашагарбха соотносится с «рассветной звездой» - планетой Венера 7.
«Уход из дому»
Остается не вполне ясным, где Ку:кай прошел обряд «выхода из дому», то есть принял буддийские обеты. Возможно, это произошло в Нара, в храме То:дайдзи, но вероятнее - в одном из горных храмов, из которых биографы чаще других называют Макио-дэра (***) в земле Идзуми (***). Наставником, налагавшим обеты, был, вероятно, Гондзо:, произошло это в 793 г.
То, чем стал заниматься Ку:кай после «ухода из дому», носит название «подвижничества» (***, сюгё:), или, более развернуто, «долгого упражнения и усердного подвижничества» (***, кю:сю:рэнгё:). Повторение дхарани не имело бы силы, если бы проводилось не при надлежащих условиях. Прежде всего следовало покинуть столицу. Ку:кай вернулся на Сикоку, отправился в горы и примкнул к монахам-странникам. Из «Введения» к «Санго: сиики» мы узнаем, где побывал Ку:кай в эту пору. Два особо отмеченных места - это гора О:таки-минэ (Тайрю:) в Ава и мыс Мурото в [303] Тоса. «Подвижничеством» здесь называется некий труд, обретение власти самим собой, продвижение к сосредоточенному состоянию, дающему силу. Как можно понять из других сочинений Ку:кай, речь при этом идет не о приобретении силы извне, а о выявлении ее изнутри через достижение единства со «своим почитаемым» - буддой или бодхисаттвой.
На горе О:таки и на мысе Мурото Ку:кай совершал обряд почитания бодхисаттвы Акашагарбхи. Для такого обряда особенно важным считался выбор места. Оно должно было быть открыто с восточной стороны, а по возможности также с западной и с южной. Возводилось особое небольшое здание. В восточной его стене должно было быть окно, куда проникал бы свет «Рассветной звезды». Там же, возле окна, натягивалось полотнище, на котором желтым цветом была написана санскритская буква, обозначавшая «семя-слог» (***, сюдзи, санскр. bija) бодхисаттвы Акашагарбхи. Как известно, изображением почитаемого будды или бодхисаттвы на мандале может быть не только его «лик» (см. рис. на стр. 301), но также и какой-то атрибут, связанный с ним (цветок, оружие, свиток) или же буква, обозначающая его имя. В трактате «О смысле слов "Стать буддой в этом теле"» (***, «Сокусин дзё:буцу-ги», ок. 817 г.) Ку:кай обосновывает тождество этих трех способов изображения «почитаемых» [Трубникова 2000, 113-117, 133-134]. «Семенем-слогом» для бодхисаттвы Акашагарбхи служило trah, реже i, om или a. Место «главного почитаемого» (***, яп. хондзон) при обряде бодхисаттвы Акашагарбхи располагалось у западной или северной стены здания. Подвижнику, ведущему обряд, надлежало 100 раз (в ста «собеседованиях» с бодхисаттвой) повторить обращенное к Акашагарбхе заклинание дхарани по 10.000 раз. Это могло длиться 50, 70 или 100 дней. Повторение дхарани сопровождалось созерцанием «Рассветной звезды».
Состояние, которого достигал подвижник при созерцании, обозначалось как «принятие дара, отклик чувства» (***, кадзи кансо:). Первую часть этого сочетания, «принятие дара» (***, кадзи) Ку:кай в трактате «О смысле слов "Стать буддой в этом теле"» поясняет так. «Дар» (***, ка) - это «отражение солнца-будды в воде-сердце живых существ». А «принятие» (***, дзи) - это то, когда «вода-сердце людей, идущих по пути, принимает в себя солнце-будду» [Трубникова 2000, 137]. Не углубляясь сейчас в те выводы, которые из этого следуют, скажу только, что оценивать «Санго: сиики» как текст, далекий от «тайного учения», невозможно уже потому, что указание на обряд в книге о «трех учениях» - это не только внешняя рамка в предисловии, но и своего рода ключ к цитатному построению текста. Раз «принятие дара» от бодхисаттвы достигнуто, то есть «смысл всех законов и учений», ведомый бодхисаттве, открылся и подвижнику, - то какой еще должна была бы быть его книга, если не щедрой сокровищницей цитат?
Насколько важным считалось в школе Сингон подвижничество по «Закону... Чрева Пустого Неба», ясно хотя бы из того, что Какубан (***, [304] он же Ко:гё:-дайси, ***, 1095-1143), реформатор «тайного учения», основатель «Школы истинных слов нового толка» (Синги-Сингон, ***), восемь раз совершал подвижническое странствие и 1000000-кратное повторение дхарани [Канаока, 16]. Традиция горного подвижничества не прекращалась, в чем-то она дожила и до наших дней. Пример Ко:бо:-дайси до сих пор остается для его последователей прямым руководством к действию. Это видно, например, из рассуждения Икэгути Экан. Он ссылается на собственный опыт, обретенный в детстве, на пределе усталости после школьных занятий и ночного обучения буддийским «тайным» обрядам, и свидетельствует, что «принять в себя» бодхисаттву, «вместить в свое тело звезду» - дело вполне возможное [Икэгути, 51-52]. На острове Сикоку до нынешнего времени сохранился обычай паломничества к так называемым «восьмидесяти восьми местам» почитания Ко:бо:-дайси - и гора Тайрю:, и мыс Мурото входят в их число 8.
В своих странствиях Ку:кай не только творил обряды бодхисаттве Акашагарбхе, но и изучал «три корзины» буддийского канона. Вероятно, с даосскими книгами Ку:кай познакомился в это же время: известно, что нередко буддийские самочинные монахи занимались и даосским врачеванием. Землями острова Сикоку странствия его не ограничивались. В храме Кумэ-дэра (***) в земле Ямато Ку:кай, по преданию, впервые увидел «Сутру о Великом солнце» (***, «Дайнити-кё:»), главный текст «тайного учения» [Канаока, 19] - и пришел к мысли, что изучать надо именно эту сутру. А значит, необходимо было ехать в Китай. Тут «многочисленные родичи и ближние», в том числе и бывшие соученики по Училищу, по-видимому, тоже приложили свои старания, рекомендовав монаха в состав посольства.
За время странствий молодой буддист сменил несколько «временных» имен. Как звали его, когда в 797 году, в возрасте 24 лет, он составлял «Само: сиики», точно не известно. Имя Ку:кай, как я уже говорила, состоит из двух знаков: «Небо» (***, ку:) и «Море» (***, кай). Сочетание «Небо и море» (или «Пустое море», «Море-пустота») встречается в китайских переводах буддийских сутр. «Небо» здесь - то же, что «Пустота», «Эфир» (akasa). Наряду с Землей, Водой, Огнем, Ветром и Сердцем оно входит в ряд «шести великих начал». Из чувств Небу соответствует слух, из качеств - «отсутствие препятствий», из сторон света - центр, из пяти будд - Вайрочана. «Море» отсылает к образу учения как корабля, на котором [305] переплывают «море страданий». А еще - к тому, что все в мире имеет вкус просветления, как вся вода в море солона на вкус.
Официальное посвящение в монахи Ку:кай (уже под этим именем) принял, вероятно, незадолго перед поездкой в Китай. Сохранился текст грамоты о его включении в состав посольства, где сказано, что монах Ку:кай «вышел из дому» в седьмой день четвертой луны двадцать второго года Энряку (803 г.) [Канаока, 19). По другой версии, это произошло еще позже, в девятый день четвертой луны двадцать третьего года Энряку (804 г.).
Путешествие в Китай
Посольство во главе с Фудзивара-но Кадономаро (***, 755-818) отплыло из гавани Таноура на острове Кю:сю летом 804 г. Сама по себе отправка посольства была большим событием. В истории японского государства это было шестнадцатое посольство, первое состоялось в 630 г. До 804 г. посланцев в Китай не отправляли уже двадцать семь лет, с 777 г., следующее посольство удалось снарядить лишь в 838 г. В пути посланцев ждали большие опасности, возвращение всегда было под сомнением. (Известно, что многие государственные мужи прилагали большие старания, чтобы избежать поездки в Китай.) Так что, видимо, и в 804 г. в состав посольства вошли в основном те люди, у кого, помимо казенной надобности, был и собственный интерес к чему-то, за чем необходимо было ехать на материк.
В том же посольстве, хотя и на другом корабле, плыл Сайтё: (***, 767-823), будущий Дэнгё:-дайси (***), основатель школы Тэндай в Японии. Он происходил из семьи китайских переселенцев. Родичи его были привержены буддизму, и уже в двенадцать лет Сайтё: «вышел из дому», а в девятнадцать лет принял полные монашеские обеты. Он подвижничал на горе Хиэй (***) неподалеку от будущей столицы Хэйан, основал там храм Энрякудзи (***). Для Сайтё: главной сутрой стала «Лотосовая сутра». Изучал он и тексты китайской школы Тяньтай, в частности, «Махаянский трактат о прекращении неведения и постижении сути» (кит. «Мохэ чжигуань»), принадлежащий Чжии (***, 538-597). В последние годы VIII в. Сайтё: был уже известен при дворе. В 797 г. он провел в столице десятидневные чтения «Лотосовой сутры», а в 802 г. его проповедь слушал сам государь Камму. Не удивительно, что Сайтё: тоже был включен в состав посольства.
Плавание заняло больше месяца, причем до Китая добрались лишь два корабля: третий затонул, четвертый вернулся назад. Главный корабль пристал в небольшой гавани в провинции Фучжоу, а корабль, на котором плыл Сайтё:, - в Нинпо. Еще некоторое время у посланников с главного [306] корабля заняли переговоры с местным начальством о дозволении отправиться в танскую столицу, Чанъань. Как считается, Ку:кай здесь смог показать себя знатоком китайской словесности, составляя красноречивые послания. В Чанъань посольству удалось добраться лишь в двадцать третий день двенадцатой луны 804 г.
В Чанъань Ку:кай встретил своего главного наставника - Хуэйго, ученика Бу Куна, седьмого патриарха школы «Истинных слов» (***, кит. Чжэньянь, яп. Сингон).
Школа «Истинных слов»
Появление школы Чжэньянь в Китае относится к началу VIII в. и связывается с деятельностью знатоков «тайного учения», прибывших в Тан из Индии или из дальних краев буддийского мира - из Средней Азии. Передача «тайного учения» в школьной традиции выглядит так: вначале сам будда Махавайрочана («Великое Солнце», ***, яп. Дайнити) передал учение Ваджрасаттве (***), «господину таинств», своему собеседнику по «Сутре о Великом Солнце». От Ваджрасаттвы, второго патриарха, учение перешло к бодхисаттве Нагарджуне (третий патриарх), от него к Нагабодхи (четвертый патриарх), далее к Ваджрабодхи (пятый патриарх), Амогхаваджре (он же Бу Кун, шестой патриарх) и к Хуэйго (седьмой патриарх). Шубхакарасимха, он же Шань Увэй, как и И Син, по этой схеме не входят в число патриархов, но их значение для «тайного учения» тоже очень велико. Шань Увэй и Бу Кун прославились как переводчики множества буддийских текстов на китайский язык. Бу Кун пользовался большим вниманием танских императоров Сюань-цзуна, Су-цзуна и Тай-цзуна. В целом обряды школы «Истинных слов» были в Чанъань в большом почете.
В расхожем мнении школа связывалась прежде всего со сложными и красивыми обрядами посвящения («окропления головы»). Славилась она таинственными картинами (мандала), где изображалось множество почитаемых будд, бодхисаттв и других существ, «истинными словами» (мантра), заклинаниями (дхарани), особыми жестами (мудра). Основных текстов у школы было два: «Сутра о Великом Солнце» и «Сутра о вершине - алмазном жезле» (***, «Конго:-тё:-кё:»).
В сутрах «тайного учения» проповедь ведет будда в «теле закона», - тот, кроме которого, по сути, в мире ничего нет. Проповедует будда о себе, говоря, что природа его непостижима, невыразима, не затронута никакой нечистотой, не подвержена связи причин, «пуста». Две сутры противопоставляются друг другу как «жезл» (ваджра, он же «алмаз», «молния») и «чрево». Это противопоставление важно для «тайного» буддизма в целом. Две разновидности мандал также различаются как «мир-жезл» и [307] «мир-чрево». «Тайное учение» объясняло смысл буддийской обрядности, осмысляя то, как при обряде посвящения происходит соединение живого существа с буддой, опосредованное кем-то из многочисленных будд или бодхисаттв (как мы видели в случае с бодхисаттвой Акашагарбхой). Учение показывало, как «телом, речью и мыслью» достичь единства со своим «почитаемым», что значат мантры, для чего нужны мандалы. Согласно «тайному учению», просветления можно достигнуть при нынешней жизни, «в этом теле». Большое внимание уделялось сопоставлению различных учений, причем все «явные», буддийские и не буддийские школы считались своего рода подготовительными ступенями для «тайного» учения. Подробнее об учении «Истинных слов» см. [Буддизм; Тантрический буддизм; Фесюн; Трубникова 2000].
Предание гласит, что Хуэйго увидел в монахе, прибывшем из-за моря, того самого главного своего ученика, кому можно передать учение. За три месяца Ку:кай прошел полное посвящение. Первый обряд по мандале «мира-чрева» состоялся в шестую луну, второй, по мандале «мира-жезла» - в седьмую, а в следующей луне были совершены обряд «окропления головы» (***, яп. кандзё:, санскр. abhiseka) и «передача закона» (***, дэмпо:). Ку:кай стал «учителем» (***, яп. адзяри, санскр. acarya) и получил «тайное» школьное имя. Оно звучало как Пяньчжао-цзиньган (яп. ***, Хэндзё:-конго:) «Повсюду сияющий алмазный жезл». В пятнадцатый день двенадцатой луны 805 г. Хуэйго скончался. Ку:кай написал учителю надгробное слово - и это означало, что школа признала японского монаха своим восьмым патриархом.
О других наставниках Ку:кай в Китае известно немного. Жизнеописания сообщают о монахе по имени Праджня-трипитака (***, кит. Баньжо-саньцзан, 734-810) из Кашмира, прибывшем в Китай около 782 г. Ку:кай успел под его руководством выучиться санскриту. В Чанъань Ку:кай мог встречаться не только с буддистами, но и с даосами, также весьма популярными при танском дворе. Разумеется, виделся он и с книжниками-конфуцианцами. Один из них, как считается, прочел сочинение японского монаха о «трех учениях» и посоветовал изменить его заглавие (см. ниже, гл. 3). Мог Ку:кай сталкиваться и с несторианами, и с мусульманами - в столице империи Тан собирались люди из разных стран.
Возвращение
Уже в следующем, 806 г., Ку:кай вернулся в Японию. Он привез с собой множество свитков сутр и трактатов, изображения будд и бодхисаттв, обрядовую утварь, семена растений, не известных прежде в Японии. Прибыв на Кю:сю:, Ку:кай еще три года ждал разрешения явиться в [308] столицу. В 806 г. он составил «Список привезенного» (***, «Госё:рай мокуроку») - отчет о поездке и перечень доставленных из Китая книг и прочих ценностей. В том же 806 г. Сайтё: получил разрешение вести проповедь по «Лотосовой сутре» и основать в Японии школу Тэндай (кит. Тяньтай, название дано по имени горы «Небесная Опора», где проповедовал Чжии). Известно, что в этой школе проводились и «тайные» обряды, что позднее привело Ку:кай и Сайтё к серьезным разногласиям.
Государь Камму скончался в 806 г. Его сменил Хэйдзэй (***, 774-824, правил в 806-809 гг.), не питавший пристрастия к буддистам. А затем на престол взошел Сага (***, 786-842, правил в 809-823 гг.). В седьмую луну 809 г. Ку:кай наконец получил дозволение прибыть в Хэйан и поселился при храме Такаосандзи (***). В этом и следующих годах Ку:кай ведет жизнь столичного монаха, обменивается с государем Сага посланиями (оба - выдающиеся каллиграфы), проводит обряды «окропления головы», последовательно занимает несколько монашеских должностей. Положение с «тайным учением» все еще неясно: то ли Сайтё: тоже проповедует его, то ли между школами Тэндай и Сингон все-таки проводится различие как между «явным» и «тайным» учениями. Чтобы обозначить место «тайной» школы среди других, известных в Японии, Ку:кай в 814 г. составляет «Трактат о двух учениях, явном и сокровенном, и о различиях между ними» (***, «Бэнкэммицу никё:-рон») 9. Ку:кай включается и в спор, затеянный Сайтё: с представителями «старых» школ, в частности, с Токуити (иначе Токуицу, ) из храма Ко:фуку-дзи в Нара, сторонником школы Хоссо:. Спор касался важнейшей проблемы махаянского учения: все ли живые существа могут стать буддой, или существуют «отверженные», для кого этот путь закрыт? В 815 г. Ку:кай, Сайтё: и Токуити обменялись посланиями, где разбирался вопрос о всеобщности просветления [Буддизм 1993, 116-117].
В 817 г. Ку:кай составил уже упоминавшийся трактат «О смысле слов "Стать буддой в этом теле"», напрямую связанный с этими спорами. В том же году составлены трактаты «О смысле слов "Голос, знак и действительный облик"» «Сё: дзи дзиссо:-ги») и «О смысле знака Ун» (***, «Ундзи-ги») 10. В 819 г. Ку:кай завершил свой «Трактат-зерцало...», содержавший свод правил китайского стихосложения. Кроме того, Ку:кай изготовлял мандалы и статуи, руководил сооружением [309] водохранилища Манно-но икэ в земле Сануки (821 г.), давал наставления многочисленным ученикам - как монахам, так и мирянам.
Глава школы
Одновременно с этим шла работа по созданию школы Сингон. С 816 г., когда от государя было получено разрешение на строительство школы, на горе Ко:я началось возведение храмов. В 819 г. Ку:кай освящает первый из них, Конго:бу-дзи а вскоре переселяется на гору Ко:я. За несколько месяцев до своего отречения в 823 г. государь Сага назначил его настоятелем «Восточного храма» (***, То:дзи) в столице. Позднее Ку:кай получил чины сё:со:дзу (***, в 824 г.) и дайсо:дзу (***, в 827 г.) - соответственно, «малого» и «великого» главы монахов. Второй из этих чинов был высшим в тогдашней буддийской общине Японии.
Переработка «Само: сиики» относится к 826 г. Государь Сага отрекся, его преемником стал Дзюнна (***, прав. 823-833). Этот государь, в частности, делал шаги по наведению порядка в буддийской общине и затребовал описания всех школ. Подрос племянник, за которого сам Ку:кай, хотя он и «вышел из дому», став монахом, отвечал теперь как дядюшка. Любопытно, что этому персонажу из «Санго: сиики» точного прототипа не подыскали. Возможно, он был не сыном родной сестры, а дальним родичем, одним из тех, кто стали потом монахами школы Сингон. Важнейшими делами для Ку:кай в эту пору были заботы о более широком образовании как для монахов, так и для мирян, а вместе с тем - и о закреплении светской значимости буддийской школы «Истинных слов». В 828 г. Ку:кай основал учебное заведение для детей чиновников невысоких рангов («Палата всех искусств и многих премудростей», ***, Со:гэй сюти-ин). В 830 г. им был завершен крупнейший по объему труд, «Трактат о десяти ступенях сердца» (***, «Дзю:дзю:син-рон»), посвященный «различению учений». Для государя Дзюнна Ку:кай составил краткий вариант этого трактата, несколько упрощенный, зато более насыщенный отсылками к небуддийской классике. Его заглавие - «Драгоценный ключ к тайному хранилищу» (***, «Хидзо: хо:яку») 11. Три учения здесь вошли в ряд десяти состояний «сердца». Начинается ряд с даосизма, конфуцианства и некого многобожного учения - оно похоже сразу и на даосское почитание бессмертных, и на индийское поклонение Брахме, Индре и другим богам, и на японский «путь богов» (синто:). Далее говорится о шести «явных» буддийских школах, и наконец, ряд завершается «тайным учением». В главе 4-ой я приведу некоторые места из «Драгоценного ключа...», где говорится [310] о даосах и конфуцианцах - для сравнения с соответствующими местами из «Санго: сиики».
После 830 г. Ку:кай почти не бывает в столице, живет на горе Ко:я. Он тяжело болен. Но еще за год до смерти он составляет «Тайный ключ к "Сутре-сердцу праджня-парамиты"» (***, «Хання сингё: хикэн») 12. Это сочинение - пример особого «тайного» способа комментирования буддийских текстов. Скончался Ку:кай в двадцать первый день третьей луны второго года Сё:ва (835 г.). А для последователей школы Сингон он вовсе и не умер, а погрузился в созерцание до тех пор, пока не явится будда Майтрейя, - тот, на встречу с которым в «Санго: сиики» спешил «Нищий с временным именем»...
Посмертным именем Ку:кай стало Ко:бо:-дайси (***) - «Великий учитель, расширивший закон».
Глава 3. Текст
Число иероглифов в камбунном тексте «Санго: сиики» - около 8500. При этом Ку:кай, по подсчетам комментаторов, прямо или косвенно цитирует более четырехсот источников [Буддизм, 164] 13. Цифра эта удивительна даже для дальневосточной традиции с ее установкой не на новизну, а на преемственность. Именно эта особенность «Санго: сиики» прежде всего обращает на себя внимание исследователей и в Японии, и вне ее. С одной стороны - широчайший охват материала, мастерское умение сопоставлять и противопоставлять цитаты наглядно показывают, как глубоко были усвоены в Японии уроки китайской книжности. Перед нами пример того, как из, казалось бы, простого набора клише, получается «не лоскутное одеяло, а целостное повествование, свободное во владении искусством диалога» [Кониси, 63]. С другой стороны - возникает вопрос о самостоятельной ценности такого рода сочинений. Можно ли считать «Санго: сиики» памятником собственно японской словесности, сколько-то самобытным произведением - или это всего лишь компиляция, ученическое упражнение на выбранную тему?
Более поздние свои сочинения Ку:кай, к тому времени уже глава школы Сингон, тоже пишет не столько словами, сколько готовыми блоками. Причем источниками служат не только «тайные» сутры и трактаты как основа учения его школы, но также и «явные» буддийские сочинения, [311] стихи и проза китайских мастеров кисти. И все-таки плотность цитирования там не столь велика, как в «Санго: сиики». Можно объяснять это условиями написания книги: своим первым сочинением молодой монах показывает, что для него обращение на буддийский путь вовсе не исключает светской учености, а в чем-то даже и способствует более пристальному взгляду на школьную премудрость. С другой стороны, он доказывает: занятия изящной словесностью не мешают монашеству. Отсюда - обилие цитат как некий вызов, заявка на рекорд: всякий ли добропорядочный выученик столичного Училища смог бы повторить такое? А ведь монах на несколько лет оторвался от сидения над книгами, странствовал в горах - но классика, усвоенная наизусть, не забылась. Позднее, перерабатывая свое раннее сочинение, Ку:кай, возможно, не только заботился о перевоспитании бестолкового племянника, но имел в виду и своих учеников по школе Сингон, тогдашних и будущих. Монаху полезна начитанность и во «внешних», мирских, а не только во «внутренних», буддийских книгах, ему необходимо владеть языком разных учений, разными стилями письменного слова. Иначе образованные миряне не станут его слушать и читать, а если и станут, то не поймут, что говорится в буддийской проповеди. Ведь во многом и сама конфуцианская образованность распространялась в Японии усилиями буддистов (ср. [Горегляд 1982, 123]). Надо сказать, что и в последующие века «Школа истинных слов» славилась не только красотой обрядов, но и системой обучения монахов: в курс их подготовки входили и буддийские, и светские сочинения. А одним из пособий на протяжении всей эпохи Хэйан оставалась книга «Санго: сиики» [Игнатович 1982, 182].
Современные исследователи помещают «Санго: сиики» в разные жанровые рамки. Действительно, возможно ли однозначно ответить на вопрос: что за текст перед нами, к какому из разделов классической японской словесности он относится? Памятник буддийской книжности? Да, здесь есть и проповедь учения Просветленного, и полемика с приверженцами Конфуция и Лао-цзы, проведенная по правилам, известным из китайских буддийских книг. Или это художественное произведение? Да, поскольку в нем есть сюжет, интрига, действующие лица, речи которых не похожи одна на другую не только по содержанию, но и по стилю. Или философский трактат, где Ку:кай, при явном следовании буддийскому пути, вполне адекватно, хотя и сжато воспроизводит два других учения, каждое со своими приемами рассуждения? Правомерны все эти точки зрения и выбрать одну из них тем труднее, что своих, японских прообразов ни в том, ни в другом, ни в третьем жанрах книга «Санго: сиики» не имела. Что же до китайских образцов, использованных на уровне построения текста в целом, то их мне и предстоит разобрать в этой главе.
Но сначала надо рассказать о том, на каком материале основаны современные исследования «Санго: сиики», - о традиционных, «школьных» комментариях. [312]
Толкования к «Санго: сиики»: прояснять или усложнять?
Книга «Санго: сиики» вошла в традицию как сочинение Ко:бо:-дайси, основателя школы Сингон. Соответственно, основная работа по ее переписыванию и толкованию делалась монахами этой школы или теми, кто так или иначе изучал наследие «Истинных слов». О значимости «Санго: сиики» для японской буддийской общины последующих веков говорит то, что с конца эпохи Хэйан и до конца эпохи Эдо всего к «Санго: сиики» было составлено более двадцати комментариев. В их числе собственно «толкования» (***, тю:), «краткие толкования» (***, кантю:), «заметки» (***, сё:), «личные заметки» (***, сисё:), «записи услышанного» (***, бунсё) и др. Фукунага Мицудзи выделяет среди них три наиболее значительных [Санго: сиики, 34]. Первое - это «Толкование к [книге] Три учения указывают и направляют"» (***, «Санго: сиики-тю:»). Его составитель, Какумё: (***, 1271-1361) из храма Ко:коку-дзи (***) в провинции Кии, исходное обучение прошел в школе Тэндай, но позднее изучал и «тайное учение» Сингон. Второе - «Краткое толкование к [книге] "Три учения указывают и направляют"» (***, «Санго: сиики кантю:»). Составитель - Цу:гэн (***, 1656-1731), последователь школы Сингон-рицу из храма Рэнко:-дзи (***) в провинции Кавати. Третье - «Сводное толкование к [книге] "Три учения указывают и направляют"» «Санго: сиики-тю:сампо»). Составитель этого комментария, Унсё: (***, 1614-1693), происходил из рода Фудзивара, был монахом храма Эмпуку-дзи (***) в Эдо. Его кисти принадлежит множество толкований к буддийским текстам, писал он и стихи (под именем Гэнсюн, ***).
«Сводное толкование...» Унсё: - наиболее полный комментарий к «Санго: сиики». Оно содержит разбор грамматически трудных мест, пояснения к употреблению иероглифов, а главное - выявляет отсылки и скрытые цитаты почти за каждым словосочетанием. Весьма подробно в «Сводном толковании...» прослежены конфуцианские и буддийские источники «Санго: сиики», в меньшей степени - даосские. Будучи сам известным поэтом, Унсё: обращает особое внимание на цитаты, взятые из китайских собраний изящной словесности («Вэньсюань», «Ивэнь лэйцзюй»). Очень внимательно он следит и за отсылками к «Запискам историка» и многочисленным китайским летописям, откуда взяты «внесценические» персонажи текста (славные и злославные герои прошлого, на пример которых особенно часто ссылается наставник Кимо:). Правда, называя источник, Унсё:, как и авторы других школьных толкований, обычно не указывает, к которой главе и разделу относится цитата: он исходит из того, что читатель свободно ориентируется хотя бы в основных классических книгах [Санго: сиики, 33-34].
Разумеется, окончательное уточнение цитат остается на долю каждого нового исследователя. И здесь многое зависит от его выбора: что понимать под цитатой и что считать ее источником? При обсуждении относительно [313] простых случаев, где Ку:кай использует какое-то сочетание иероглифов, уже встречавшееся в одном из памятников китайской словесности, все, казалось бы, просто, хотя и здесь иногда комментаторы не соглашаются друг с другом. Сложнее обстоит дело с отсылками, когда исходным текстом выступает достаточно большой отрывок, свернутый при цитировании до одного отсылающего слова. Если речь идет о каком-то расхожем примере, вроде того, как Нин Ци пел и дудел в рог, чтобы привлечь внимание государя, - то как определить, к какому именно изложению этого эпизода отсылает нас Ку:кай? Приходится руководствоваться не слишком объективными соображениями: например, тем, в каком контексте приводится отсылка (одобрительном, укоризненном и т. п.), и соответственно этому выбирать между возможными источниками.
Часты в «Санго: сиики» и цитаты вторичные («внучатные», ***, сонъин), когда Ку:кай использует не сам текст, а выдержки из него, помещенные в другом тексте. Можно сказать, что за исключением бесспорно общезначимых памятников - «девяти книг» конфуцианского канона, «Луньюй», «Дао-дэ-цзин», «Чжуан-цзы», «трех сутр, защищающих страну» и еще нескольких, - остальные сочинения цитируются постольку, поскольку однажды они уже были отобраны составителями одного из классических собраний изящной словесности или же буддийских хрестоматийных сводов («Хунмин-цзи», «Гуан хунмин-цзи»). Что вошло в знаменитые собрания, то заведомо годится для цитирования: подобное отношение к материалу характерно для дальневосточной традиции в целом.
Существенная трудность для исследователей состоит в том, что некоторые из цитат, вероятно, «вчитаны» в текст самим Унсё: и другими составителями школьных комментариев. На протяжении столетий первая книга Ко:бо:-дайси оставалась для толкователя вызовом, приглашением к состязанию в учености. Вопрос о действительном знакомстве автора «Санго: сиики» с тем или иным источником не был существен: основатель школы, непревзойденный мастер слова, «Учитель, расширивший закон», мог иметь в виду любой образец. А даже если Учитель и не предусматривал именно этой скрытой цитаты, - все равно вновь найденная отсылка расширяет круг китайских источников, полезных для понимания его книги, а потому значимых и для школы, и для всей образованной буддийской общины: дело Ко:бо:-дайси продолжается... Так, парадоксальным образом, текст от комментирования становился не проще, а сложнее.
Готовя научное издание «Санго: сиики», современный японский комментатор решает две трудно совместимые задачи: как можно полнее воспроизвести школьную традицию толкования и в то же время пояснить читателю малознакомые термины, реалии, имена и т. п. По мере расширения первого, «традиционного» уровня комментария разрастается и пояснительная часть, что, в свою очередь, требует новых отсылок и новых пояснений к ним - и так до бесконечности. Исследование Фукунага Мицудзи, на [314] котором основан мой комментарий [Санго: сиики], следует школьному толкованию Унсё:. Оно сосредоточено главным образом на источниках, цитируемых в «Санго: сиики», и если речь идет не о прямой цитате, а об отсылке, то по возможности приводится весь контекст. Пояснения же даются в самом сжатом виде: даты жизни и область деятельности исторических лиц, расшифровка «цифровых» терминов (таких, как «пять постоянств» или «восьмеричный путь»), синонимы редких и устаревших выражений, понятные современному японскому читателю. Примерно по такому же принципу, но в более сжатом объеме, выстроен и комментарий Ватанабэ Сё:ко: [НКБТ]. Хакэда Ёсито, переводчик «Санго: сиики» на английский язык, по большей части ограничивается пояснениями реалий. Источники же он указывает только для тех случаев, где сам Ку:кай выделяет цитату как цитату, то есть ссылка на источник дается в речи персонажей [Хакэда, 103, 104 и др.].
В моем комментарии сделана попытка совместить и перечисление источников, и пояснения. Поскольку значительная часть цитируемых авторов и названий сочинений не на слуху у отечественного читателя, то в указателях даются некоторые самые общие сведения о них. Многие объяснения терминов также вынесены в указатель.
Всюду, где это возможно, у меня в комментарии приведены соответствующие контексты из русских переводов цитируемых сочинений. Отчасти эта работа может показаться неблагодарной. Известно, что классический китайский текст допускает множество прочтений. И если существующий русский перевод того или иного отрывка полностью «подходит» к контексту, в котором этот отрывок цитирует Ку:кай, то это - скорее счастливое исключение, а не закономерность. И все-таки мне кажется, что неправильно было бы не использовать издание «Санго: сиики» на русском языке как повод собрать вместе русскоязычную «китайскую книжность» - от переводов Ю. К. Щуцкого, В. М. Алексеева, Н. И. Конрада и до публикаций 1990-ых и начала 2000-ых годов. Это представляется важным хотя бы для того, чтобы еще раз оценить, какие пласты китайской традиции в России изучены в большей мере, а какие в меньшей.
Часто говорят, что перевод - лучший способ изложить результаты исследования. При этом переводчику приходится решить, насколько можно встраивать свои пояснения в сам текст перевода. Англоязычная научная традиция не только не запрещает, но и требует действовать именно так. В русских переводах, претендующих на научность, необходимым считается брать в квадратные скобки все «лишние» слова, добавленные для ясности или связности, вообще как можно меньше дописывать «от себя». С другой стороны, нужно высокое стилистическое мастерство, чтобы перевод, где всюду расставлены квадратные скобки, вызывал желание прочесть его. Мои поиски компромисса привели к тому, что в издании перевод повторен дважды: без скобок - как перевод, и со скобками - как часть комментария. Представляется, что за пояснениями и отсылками удобнее следить, [315] когда каждая фраза или часть фразы дана рядом с комментарием к ней, и там же - ее написание иероглифами и транскрипция кириллицей.
Вопрос, казалось бы, очевидный, но оттого не менее каверзный: с какого, собственно, языка сделан мой перевод? Язык того текста, который по частям приводится у меня в комментарии, - это не камбун, а бунго: не китайский, а старояпонский. Так все-таки на каком языке написана книга «Само: сиики»?
Язык: китайский или старояпонский?
Разумеется, исходный язык «Санго: сиики» - камбун, китайский язык, усвоенный японским автором. Бунго, письменного японского языка, на рубеже VIII-IX вв., по сути, еще не существует. Если представить, что Ку:кай читал бы свое сочинение вслух кому-то из соотечественников, не владеющих устным китайским языком, то делал бы он это, скорее всего, переводя с листа китайскую запись на тогдашний устный язык Японских островов: текст, написанный на одном языке, произносился бы на другом, совершенно ином и по грамматическому строю, и по основному запасу лексики. Первые попытки воспроизводить японские слова иероглифами «по звуку», а не по смыслу, были сделаны составителями летописи «Кодзики»: прежде всего чтобы сохранить имена собственные, а также древние песни такими, как они звучали в устах сказителей. Для записи песенного «Собрания десяти тысяч листьев» было приспособлено особое письмо, где иероглифы последовательно используются как фонетические знаки для японских слогов: его так и называют «азбукой "Манъё:сю:"» (***, манъё:гана). Позже, в пору становления собственно японской письменной словесности, была выработана слоговая азбука. Хотя в традиции и считается, что ее изобрел Ку:кай, появление ее, вероятно, относится к концу IX в. Буддийские же тексты стали писать на бунго еще позже - хотя издавна, еще в Китае во времена перевода основных сутр и трактатов на китайский язык, сложилась особая система передачи иероглифами буддийских имен и некоторых непереводимых понятий («нирвана», «бодхи» и др.). И поскольку я обращаюсь к «Санго: сиики» как к памятнику японской словесности, то должна следовать традиции его переписывания, чтения и толкования в Японии. А в пору составления основных комментариев к «Санго: сиики» этот текст уже существовал не только на камбун, но и на бунго.
Приспособление иероглифической рукописи для чтения ее по-японски может быть разным: от разметки порядка слов и до записи отдельных частей слова и целых вспомогательных слов буквами слоговой азбуки. Во втором случае, при сохранении почти всех значимых слов в их иероглифическом виде, из камбун получается бунго. В современных изданиях [316] обработка камбун, приводящая его в «старояпонский» вид, основана на сохранившихся рукописях, но всякий раз она заново выверяется и уточняется исследователем, готовящим новое издание. Следующий этап - перевод с бунго на современный японский язык: эта задача в чем-то близка к той, какую решают, например, те, кто переводит на русский «Слово о полку Игореве».
Ку:кай следует так называемому стилю «парных четверок и параллельных шестерок» кит. сылюэ пяньли, яп. сироку бэнрэй) - это стиль сочинений, вошедших в «Вэньсюань» и «Ивэнь лэйцзюй», образцовый язык китайских авторов времен Шести династий (III-VI вв.). Его особенность - в том, что фразы строятся на сочетаниях по четыре и по шесть иероглифов, с достаточно строгими правилами «парности» и «параллелизма» [Кониси, 34-35]. Естественно, что в полной мере оценить тот ритм изящной прозы, который создается при этом, можно только читая камбун; уже при перестройке на бунго, а тем более в переводах на новые языки, он теряется.
Следующий вопрос, на который обращают внимание комментаторы «Санго: сиики», касается названия книги. Свои более поздние сочинения, посвященные различным вопросам буддийской догматики, Ку:кай почти всегда строит как серии толкований к одной короткой формуле, вынесенной в заглавие. Таковы рассуждения «О смысле слов "Стать буддой в этом теле"», «О смысле слов "Голос, знак и действительный облик"», «Тайный ключ к "Сутре-сердцу праджня-парамиты"» и др. При том, что жанр «Сан- го: сиики» все-таки другой, можно выделить в тексте те блоки, где именно даются ответы на вопросы, что есть «учение», почему их «три», на что они «указывают» и куда «направляют». Но в этой главе для меня важнее другое: проследить, как основная стилистическая примета «Санго: сиики» - цитатность - выдержана и в заглавии книги.
«Три учения указывают и направляют»: откуда эта цитата?
Сочетание «три учения» (***, кит. саньцзяо, яп. санго:) в названии книги Кукая отсылает к целому корпусу китайской буддийской литературы, где обсуждается тема единства буддийского, конфуцианского и даосского учений. Знаки *** входят, например, в названия таких сочинений, как «Песня, излагающая три учения» «Шу саньцзяо-ши») лянского государя У-ди или «Трактат о трех учениях» (***, «Саньцзяо-лунь») Ван Чуня - оба эти текста использованы в «Санго: сиики» 14. Еще один [317] пример - «Трактат о равенстве трех учений» (***, «Саныцзяо цилунь») Вэй Юань-суна (***). А в списке книг, которые Ку:кай привез из Китая («Госе:рай мокуроку») числится сочинение Фалиня «Трактат о неравенстве трех учений» (***, «Саньцзяо уцилунь») [Санго: сиики, 53].
Сравнение трех учений в Китае начиная с III в. исходно имело целью поставить буддийскую проповедь в один ряд с исконно китайскими учениями. Разговор о «трех учениях» подразумевал обоснование правомерности и необходимости существования буддийской общины в Китае. В частности, поэтому сочинения о трех учениях часто подводятся под жанровое определение «трактата» (***, кит. лунь, яп. рон) в том понимании, которое вкладывают в него буддийские авторы. Здесь, при общей буддийской направленности, в полемических или просветительских целях могут привлекаться самые разные, в том числе и небуддийские источники [Трубникова 2000, 145-148]. Тема «трех учений» в этом случае перекликается с темой «двух учений»: внутреннего и внешнего, буддийского и мирского. Можно вспомнить «Трактат о двух учениях» (***, «Эр цзяо лунь») Даоаня, цитируемый в «Санго: сиики», или текст самого Ку:кай «Трактат о двух учениях, явном и сокровенном, и о различиях между ними». Там различие проводится уже между «тайным» учением школы Сингон и всеми прочими, «явными» учениями 15. Показательно, что в «Продолжении поздних анналов Японии» в записи о кончине главы школы Сингон (см. выше, гл. 2) упоминается «передаваемый в свете "Трактат о трех учениях"» (***, Ё:-ни цуто:ру Санго:рон) - речь явно идет о «Санго: сиики».
Однако в традиции закрепилось другое название книги, указывающее на другой жанр. Если тема ее - «санго:», «три учения», то способ изложения - «сиики», что значит «указывать и направлять». В моем переводе получается так, что «указывают и направляют» сами учения, однако возможен и другой перевод: «Направляющие мысли о трех учениях», где «указывает и направляет» автор (см., например, [Игнатович 1982]). Сочетание *** (кит. чжигуй, яп. сиики) включает пару иероглифов со значениями, соответственно, «указывать пальцем» (***, кит. чжи, яп. си/сасу) и «возвращать, возвращаться» (***, кит. гуй, яп. ки/каэру). Оно встречается, например, в «Баопу-цзы» как обозначение некого «руководства к действию», необходимого при освоении даосского учения. Так, в главе 14 («Усердные [318] поиски»), где речь идет о невозможности достичь успеха без наставника, по одним лишь книгам, сказано: «В них [= книгах - Н. Т.] мало ценного для человека, вступившего на путь великого делания и стремящегося получить указания относительно своей практики» (яп. ***, Дайко:-но сиики-о кайгэн-су) [Баопу-цзы, 221]. Речь идет о чем-то промежуточном между истинами, изложенными в книгах мудрецов, и практическими действиями, направленными к достижению бессмертия, - а именно, о таких указаниях, из которых стало бы ясно, как от книжной премудрости вернуться назад, к прикладным жизненным задачам. Сами по себе эти указания не относятся к «учению», но без усвоения основ учения уловить их смысл тоже не удается. «Пока не исчерпаешь полностью принципы сущего и не постигнешь до конца природную сущность явлений, не сможешь познать суть подобного рода фактов» (яп. ***, Соно сиики-о сиру атавадзу), - сказано далее, в главе 16 («О желтом и белом») [Баопу-цзы, 253]. О том, что жанр «трактата» совместим с задачей «указывать и направлять», говорит, например, название трактата Янь Цзуня «Путь и доблесть указывают и направляют», ***, «Даодэ чжигуй-лунь» (цитируется в «Санго: сиики» - Кимо: 41).
Сочетание четырех иероглифов *** в Китае не было задействовано как название какого-либо сочинения. Но у Фалиня в «Трактате о различении справедливого» (***, «Бяньчжэн-лунь» св. 4) есть фраза, обращенная к танскому государю Тай-цзуну: «[Ты] видишь прошлые дела ста государей, постигаешь направляющие указания трех учений, ... и так, беря из сердцевины и черпая извне, [ты] не оставишь без внимания и учение [подвижника] из рода Шакья». Таким образом, название книги Ку:кай можно считать цитатой из трактата Фалиня [Санго: сиики, 53].
Что касается сходства и различий между «Санго: сиики» и другими буддийскими сочинениями различных жанров, то главное, на что здесь обращают внимание комментаторы, - это построение текста «по ролям». Книгу сравнивают то с драмой, с «пьесой, не предназначенной для сцены» [Буддизм, 163], то с философским диалогом. И разумеется, такая форма тоже имеет свои истоки в китайской словесности: и классической, и буддийской.
Действующие лица
Прежде чем дать слово представителям трех учений, Ку:кай, назвав во «Введении» основную цель и замысел своего сочинения, кратко очерчивает экспозицию: в дом некоего господина приглашен конфуцианский наставник, чтобы учить уму-разуму его юного племянника. Потом неведомо откуда в том же доме появляется даосский отшельник, а затем молодой буддийский монах, стоявший у ворот в ожидании милостыни, тоже [319] включается в разговор. Кое-что мы узнаем о внешности и повадках действующих лиц, каждая из их длинных речей сопровождается пусть краткими и достаточно условными, но все же важными репликами слушателей. А что касается буддиста, то у него есть развернутая предыстория, которую Фукунага Мицудзи сравнивает с проходом героя классического театрального действа на сцену по помосту через зрительный зал (по «цветочному пути», ***, ханамити - [Санго: сиики, 59]). И все-таки - какая же это пьеса, если театр как таковой в Японии появится не раньше чем через пятьсот лет?
В какой стране и в какое время происходит действие «Санго: сиики»? С одной стороны, мы знаем, что там есть государь и государева служба, приветствуется знание конфуцианских канонов, кое-кем применяются искусства продления жизни и готовятся даосские снадобья, известен и буддийский закон - а где-то в недальних краях есть и «берега жемчужных водорослей», и «бухта камфорных деревьев», как в Японии на острове Сикоку... Но при этом место действия «Трех учений...» - это некоторый условный, выдуманный мир, на что, прежде всего, указывают имена действующих лиц. Три из них, Кимо:, Токаку и Сицуга, взяты из «Сутры золотого света» и обозначают нечто невозможное, нелепое: «шерсть черепахи», «рога зайца», «зубы пиявки». Даос зовется Кёму, «пустотой-ничто», а буддист вообще, по сути, никак не назван - просто Камэй-Коцудзи, «нищий с временным именем», и даже не сказано, как звучит это временное имя. Тем самым задана дистанция между авторским введением (вполне четко привязанным к японским реалиям времени и места) и всем дальнейшим повествованием, которое разворачивается «нигде», среди невсамделишных, хотя и узнаваемых лиц [Санго: сиики, 58].
Впрочем, персонажам «Санго: сиики» издавна принято подыскивать реальные прототипы. Камэй-Коцудзи - это, будто бы, сам Ку:кай, Кимо: - его дядя Ато-но О:тари. Эту версию поддерживают, например, Сиба Рё:таро: и вслед за ним А. Г. Фесюн (ср. [Сиба I, 80; Буддизм, 163]). С этим трудно не согласиться, если учесть, что в рассказе о предыстории Камэй-Коцудзи автор проводит его через всё те же жизненные обстоятельства, которые изведал и сам: горное странствие, упреки в измене «верности и почтительности» и др. Хотя показательно, что места странствий героя - иные, чем те, что называет во «Введении» Ку:кай. Именно в такой частичной автобиографичности Фукунага Мицудзи видит самобытность книги [Санго: сиики, 62]. Итак, по сравнению с какими образцами здесь можно говорить о традиционности или новаторстве?
Пример построения текста «по ролям» в классической китайской словесности - это одна из разновидностей жанра фу, прозо-поэтической песни 16. [320]
Как указывает И. К. Лисевич, изначально фу происходят от песен, которыми обменивались слепцы соу на осенних праздниках урожая: возможно, уже тогда фу включали в себя обмен загадками. Позднее в авторской поэзии, в частности, у Сюнь-цзы, фу - это некий диалог, предмет которого до самого конца остается не назван: «Автор всякий раз начинает с пространного восхваления какой-либо вещи или явления. Он подробно перечисляет и описывает ее свойства, не называя вещь по имени, а затем, ссылаясь на свое незнание, обращается за разъяснением к воображаемому собеседнику. Тот, в свою очередь, подхватывает нить восхваления и, лишь истощив красноречие, наконец сообщает отгадку - оказывается, речь все время шла об облаке, о бамбуковой игле, об этикете, и знании и др.» [Лисевич, 102].
Такое же диалогическое построение свойственно и фу эпохи Хань, уже испытавшим на себе влияние философской прозы. Здесь форма диалога служила внутренней стройности, доказательности рассуждений, необходимых для фу как назидательного жанра [Лисевич, 105-106]. Речи, вложенные в уста персонажей, роднили фу с такими памятниками философской прозы, как «Чжуан-цзы» и «Ле-цзы». А связь между «вложенными речами», «пустотой» (вымышленностью) описываемой беседы и «пустыми» именами персонажей отмечал уже Сыма Цянь [Кроль, 237-238].
Наиболее очевидный образец для построения «Санго: сиики» дают две песни фу ханьского поэта Сыма Сянжу: это «Песнь о Цзы Сюе» и продолжающая ее «Песнь о государевом лесе» [Санго: сиики, 60]. Обе песни приводятся в «Изборнике», на русском языке они в переводе А. Адалис помещены в издании [Антология, 206-231]. Здесь есть и экспозиция, и обмен речами между тремя собеседниками. Первый из них - Цзы Сюй (***). Прибыв в княжество Ци послом от княжества Чу, он приглашен на княжескую охоту. После, отдыхая, он принимается хвастаться перед цискими учеными мужами. Цзы Сюй пересказывает, как по ходу охоты он беседовал с князем Ци, и тот с любопытством выслушал его рассказ о чуском озере Юньмэн. Для своих новых слушателей Цзы Сюй повторяет восхваление земли Чу и тамошних угодий. Ему возражает циский ученый муж по имени У-ю (***): нам бы лучше было услышать от посла не похвальбу, а рассказ о доблести чуского государя. Что же до земель, то из них обширнее и прекраснее всех наша Ци, - о ней и поет У-ю. Третьим слово берет У-ши-гун (***) и заявляет: оба вы спорите о пустяках. Вот у Сына Неба земли - так земли, охоты - так охоты! И при всей их роскоши государь оказался от них, чтобы все силы посвятить делам правления. Речь У-ши-гуна во славу царских заповедников - это и есть «Песнь о государевом лесе». Выслушав ее, Цзы Сюй и У-ю в смущении признают свою неправоту. Имя Кёму (***, кит. Сюйу) у Ку:кай как бы составлено из имен двух героев Сыма Сянжу; все три имени, как и в «Санго: сиики», имеют смысл: «пустышки», «люди, которых нет». Впрочем, у того же Сыма Сянжу сочетание [321] *** («пустота-ничто») встречается и как понятие, отсылающее к даосским «странствиям в пустоте». Сходство прослеживается и в том, как герои по очереди выставляют друг друга глупцами.
В том же «Изборнике» есть трактат Ван Бао «Четыре мудреца спорят о доблести»: его Ку:кай также, без сомнения, имел в виду. Здесь беседуют четыре действующих лица: книжник Вэйсы (***, господин Сюйи (***), наставник Фую (***) и Чэньцю-цзы (***). Они с разных сторон обсуждают понятие государевой доблести (***, дэ), причем всюду ссылаются на классические тексты и приводят в пример добродетельных мужей прошлого: Бо И, Сюй Ю и др. [Санго: сиики, 60]. Имена персонажей здесь также указывают на их вымышленность: «Мелочный», «Пустой», «Плавучий-блуждающий»...
Буддийский текст, построенный по схожему образцу и явно учтенный при составлении «Санго: сиики», - это «Трактат о различении справедливого» Фалиня. Первый и второй свитки этого трактата занимают «Главы о том, как Три учения исправляют Путь-Дао» (***, «Саньцзяо чжидао-пянь») [Санго: сиики 61-62]. Здесь «молодой господин» Шансян обосновывает мысль, что в области управления государством «три учения» не соперничают, ибо каждое имеет свои задачи. Слово дается представителям учений. Первый из них - знаток древних книг; второй - странный человек, по виду конфуцианец, на деле излагающий даосскую точку зрения; третий - почитатель буддийского учения о сострадании, признающий, однако, знатока древностей своим учителем. Общее с «Санго: сиики» здесь то, что персонажи свободно пользуются словарем всех трех учений, и то, что в конце концов предпочтение отдается буддизму. В качестве основных понятий, представляющих три учения, выбираются те же, что и у Кукая: «Наставления шести книг 17 Чжоу-гуна и Кун-цзы опираются на верность и почтительность» (***, кит. чжунсяо, яп. тю:ко:); «указания двух глав 18 Старца Ли исходят из оснований Пути и доблести» (***, кит. даодэ, яп. до:току); «письмена трех корзин 19... берут за основу жалость и сострадание» (***, кит. цыбэй, яп. дзихи) [Санго: сиики, 61].
Фукунага Мицудзи отмечает, что при явном заимствовании из названных выше образцов «Санго: сиики» обладает и самобытностью - прежде всего в том, что здесь присутствует отношение автора к репликам действующих лиц, тогда как у Фалиня, например, авторский голос не слышен. Ку:кай же, подбирая и расставляя по порядку слова-цитаты, «как бы нанизывает на нить драгоценные камешки, ... делает круглые четки, чтобы [322] потом возложить их на жертвенник всем буддам и бодхисаттвам» [Санго: сиики, 63]. Кониси Дзинъити указывает на то, что соединение в одном произведении «драматических», сюжетных элементов, характерных для песни-фу, и философского диспута, характерного для трактата, не имело прототипа в Китае и может считаться новаторством Ку:кай [Кониси, 39].
По замечанию В. Н. Горегляда, позднее в японской литературе сочинения, построенные как диалог, а точнее, как обмен речами, так или иначе ориентировались на «Санго: сиики». Можно назвать «Великое зерцало» (***, «О:кагами», рубеж XI-XII вв.) [Горегляд 1997, 185; О:кагами]: там беседа идет между двумя глубокими старцами и одной старухой, причем их обмен воспоминаниями охватывает историю японского государева рода и рода Фудзивара за несколько столетий.
Завершая разговор о построении текста «Санго: сиики», нужно коснуться и еще одной темы. Дело в том, что сочинение, известное под названием «Санго: сиики», - не единственная версия книги.
«Санго: сиики» или «Ро:ко сиики»?
До наших дней сохранилась рукопись, принадлежащая, как считается, кисти самого Ко:бо:-дайси. Она признана одним из Национальных сокровищ Японии и хранится в собрании Рэйхожан (***) в храмовом комплексе на горе Ко:я [Фесюн, 59]. По содержанию это почти то же, что «Санго: сиики», однако рукопись имеет другое заглавие: «Глухим и слепым: направляющие указания» (***, Ро:ко сиики»),
«Сводное толкование» Унсё: содержит такое сообщение: «Когда это сочинение [= «Санго: сиики»] появилось, оно называлось "Глухим и слепым: направляющие указания"... Направляясь в Тан, [Ку:кай] взял его с собой и показал некоему знатоку наук (***, кит. сюэши, яп. гакуси). Тот одобрил его и предложил изменить название на другое: "Три учения указывают и направляют"» [Санго: сиики, 54].
Название «Ро:ко сиики» тоже имеет свою историю в китайской словесности. Сочетание «Глухие и слепые» (***, ро:ко) встречается в «Изборнике» у Мэй Шэна в цикле «Семь посланий»: «Дать услышать глухому, показать слепому». Даосюань (*** 596-667) в «Собрании старых и новых весов-суждений о буддийском пути» ***, «Цзи гуцзинь фодао луньхэн») приводит следующую цитату из сочинения лянского Сяо Луня (***): «Да же тот, кто глух и слеп от жажды-любви, если пожелает достичь глубокого отречения, то тем самым поймет, как ему вернуться [на правильный путь]». Соответственно, «глухие и слепые» - это несведущие, заблудшие люди, которым надо указать путь и направить их по нему. При этом направляют их на «возвратный» путь. Ср. в «Баопу-цзы» (гл. 14, «Усердные [323] поиски»): «Человек, который заблудился и не знает, как ему вернуться назад, становится бесстыдным, если он начинает указывать дорогу другим людям, оказавшимся в том же положении» [Баопу-цзы, 226].
При том, что по содержанию «Ро:ко сиики» и «Санго: сиики» почти дословно тождественны, это не одно сочинение под двумя разными заглавиями, как и не два самостоятельных текста, а две версии одной книги, разделенные несколькими десятилетиями. Различаются в них прежде всего авторское введение и заключительная песня Камэй-Коцудзи, тогда как речи Кимо: и Кёму в обоих версиях совпадают полностью, речь Камэй-Коцудзи - по большей части. Важно, что в «Ро:ко сиики» в нескольких случаях дается фонетическая расшифровка имен собственных, относящихся к Японии (см. «Комментарий», ККн 28-33). Прослеживая отдельные разночтения между версиями, Фукунага Мицудзи показывает, что известный нам текст «Ро:ко сиики» - версия первоначальная, а «Санго: сиики» - более поздняя. Дело здесь не только в том, что некоторые обороты «Ро:ко сиики», спорные с точки зрения грамматики классического китайского языка, в «Санго: сиики» заменены на более правильные [Санго: сиики, 55], но и в том, что позиция автора, его оценка «трех учений» в «Санго: сиики» ближе к той, что известна по более поздним сочинениям Ко:бо:-дайси.
Место введения в «Ро:ко сиики» занимает следующий текст:
«Это пробуждается вдруг, стремительно-внезапно (***, Сорэ рэцубё:-но татимати-ни окору), пробуждается, следуя за ревом тигра (***, Окору кото тора-но усобуку-ни ситагаи), бежит-шумит, как частый дождь (***, Хо:у-но хайхай тару), бежит, пока не [скроется], удаляясь, [лунный] заяц (***, Хай-тару кото цуки-но (хицу-ни) какару-о мацу).
Так - летящая-парящая киноварная птица (***, Коко-о мотэ кайкай-тару танхо:-ва): ее полет непременно имеет причину (***, Какэру кото канарадзу ёси ари); скользящий-скользящий красный змей (***, Энъэн-тару сэкирю:-ва): движется-близится, чувствуя связь (***, Эн-ни кандзитэ каэри итару).
По этой причине поэты (Коно юэ-ни кадзин-ва) или приумножают радость-веселье (***, Аруи-ва энраку-ни хабэтэ мотэ), изливают счастливое настроение (***, Таносики кимоти-о канадэ), или принимают в себя горе-муку, песнью развертывают страждущее сердце (***, Аруи-ва вагин-о идаитэ канасики кокоро-о уmay).
Видя мудрого-мощного, стремят вперед величание-восхваление (***, Кэнно:-о митэ мотэ котохоги-о хасэ), печалясь о глупом и злом, посылают в полет предупреждение-предостережение (***, Гуаку-о аварэндэ имасимэ-о тобасу)» [Санго: сиики, 55-56]. [324]
Как и в дальнейшем, Ку:кай здесь использует образы, уже встречавшиеся у китайских поэтов: у Цао Чжи, Чэнь Юэ, Чжан Вэньчэна (в основном цитаты взяты из его «Странствий к пещерам бессмертных»). Смысл отрывка в целом - восхваление слова-вэнь. Слово таинственно связанно с чем-то вне поэта, в самом устройстве мира: в «Ро:ко сиики» это образы тигра, лунного зайца, киноварной птицы, красного змея. Такое же вступление есть и во введении к «Санго: сиики», но там оно отсылает к другим, если можно так сказать, более классическим источникам: к «Прилагаемым суждениям» из «Книги перемен», к «Оде изящному слову» Лу Цзи и к сочинению Лю Се «Ваяние дракона в сердцевине письмен». Эти три текста - обязательные источники к теме вэнь. Причина появления «письмен» в них выражена яснее: это знаки неба и земли, находящие отклик в чувствах человека. Автобиографический отрывок, где Кукай говорит о своей молодости, обучении у дяди и в столичном Училище, об уходе в монахи, как и рассуждение о беспутном племяннике, отсутствуют во введении к «Ро:ко сиики».
После приведенного фрагмента в «Ро:ко сиики» следуют слова, совпадающие с введением «Санго: сиики»: «Кимо: приглашен мною как книжник-конфуцианец. Токаку я призвал, чтобы сделать его хозяином-гостеприимцем. Дав слово наставнику Кёму, я получу указания о вступлении на Путь-Дао, а расспросив Камэй-Коцудзи, услышу пояснение к основам учения будды, выводящего из дому. Собравшись все вместе, они увещевают Сицуга».
Начало заключительной песни Камэй-Коцудзи в «Ро:ко сиики» звучит так:
«Те, кто строит сердце, черпают из учения Кун-цзы;
(***, Кокоро-о наситэ Ко:кё:-о асари)
Те, кто гонит вперед мысль, ловят ветер Лао-цзы.
(***, Омои-о хасэтэ Ро:фу:-о кару)
Связанные воедино, они блюдут начало нынешней жизни,
(***, Футацу-нагара консэй-но хадзимэ-о итонами)
Вместе ждут конца прибывающих поколений
(***, Томо-ни райё:-но овари-о окотпару)...» [Санго: сиики, 56].
Фукунага Мицудзи отмечает, что здесь отношение к конфуцианскому и даосскому учениям снисходительное - как к поверхностным, не выходящим за пределы нынешнего века. Это - взгляд буддиста-монаха, да к тому же еще и новичка, склонного противопоставлять мирские учения и буддийский закон. В «Санго: сиики» Камэй-Коцудзи говорит об учениях [325] Конфуция и Лао-цзы иначе: все учения оказываются по-своему действенными, несущими благо живым существам. Буддийский закон, конечно, превосходит их, но и не мыслим без них.
Время окончательной доделки «Трех учений» точно не известно. Предположительно, это 826 год [Фесюн, 59]. Во всяком случае, в кратком жизнеописании Ку:кай в «Продолжении поздних Анналов Японии» цитируется введение к «Санго: сиики», так что можно считать достоверно известным, что автор этого введения - сам Ку:кай. Так или иначе, обе версии текста датированы 1-ым днем 12-й луны 16-его года Энряку, т. е. 797 годом.
Стихи
В «Санго: сиики» есть четыре стихотворные вставки, все от лица Камэй-Коцудзи, две в жанре фу (*** ), две в жанре ши (***).
Не беря на себя задачу описать здесь, хотя бы в общем виде, приемы китайского стихосложения, скажу только, что песни-ши восходят к образцам из «Книги песен» и к сочинениям более поздних поэтов, так или иначе опирающимся на эти образцы. Разумеется, на протяжении веков характер ши не раз менялся: Ку:кай в основном следует тем из них, что представлены в «Изборнике». О происхождении песней-фу я уже говорила выше. Более поздние, авторские фу составлялись при дворе, часто поэтами-учеными, и служили восхвалению государя или же какого-либо города, места, вещи и др. «Ши, как канцона, за чувством идет и становится ярко-изящной. Фу, как поэма, природа во плоти, катится четким и ясным потоком» - говорится у Лу Цзи (261-303) в «Оде изящному слову» («Вэнь-фу») [Алексеев 1978, 262]. Первой фу с буддийским содержанием считается «Песнь о восхождений на гору Тяньтай» («Ютяньтайшань-фу») Сунь Чо (314-371).
На русский язык фу переводились и стихами, и прозой. Пожалуй, самые знаменитые их переводы принадлежат В. М. Алексееву. Кроме предисловия и комментария, они сопровождаются также «парафразом»: кратким пересказом содержания, где раскрывается логика смены одних мотивов другими [Китайская проза].
Говоря о буддийской поэзии Китая, исследователи обращают внимание на совмещение в ней нескольких терминологических слоев: собственно буддийского, даосского, перешедшего в буддизм, собственно даосского, а также нейтрально-мироописательного и др. [Кравцова 2001, 123-135]. Б. Б. Вахтин в связи с этим указывает на возможность говорить о поэтическом творчестве, о «стихии вэнь», как об особом, «четвертом учении», которое соединяет в себе конфуцианство, даосизм и буддизм, но в этом соединении придает им и некое новое качество. «Вернувшись домой из присутствия и сняв одежду чиновника, верный слуга государственной [326] системы брался за кисть и писал стихотворение, пронизанное буддийскими настроениями или даосской мистикой, беседовал с другом о прелестях отшельнической жизни и суетности мира; одним словом, как бы легко и свободно переходил от одной системы ценностей к другой, не заботясь о том, что в европейской цивилизации называется "символом веры", "цельной личностью", "верностью идеям" и т. п. Внутри буддист или даос, снаружи конфуцианец - это можно сказать об очень многих выдающихся поэтах старого Китая. Что это? Особая терпимость или просто отсутствие такого понятия, как "личность"? Сознательное невмешательство общества в духовную жизнь своей служилой интеллигенции? В том ли тут дело, что «внешнее» требовало лишь неукоснительного соблюдения своих правил и норм поведения, сурово карая отступления от них, а духовный мир человека ("внутреннее") не подлежал никакому суду и никогда не требовал "исповеди", или в том, что мир мыслился как бы разделенным на несоприкасающиеся сферы, в каждой из которых были свои правила и своя система ценностей, и человеку надлежало лишь следовать им и не нарушать их, в какой бы сфере он ни оказывался в тот или иной момент жизни? Не берусь дать ответ на эти вопросы, однако это факт, что многие поэты... "внешне" были одно, а "внутренне" - другое» [Вахтин, 112].
Что касается Японии конца VIII в., то о невмешательстве государства в жизнь образованного чиновничества говорить не приходится: насущные задачи требуют создать такое чиновничество, и любая новая книга неизбежно отзывается в том числе и на этот «социальный заказ». В случае «Санго: сиики» это особенно очевидно. Служилый грамотей - пока еще новое явление, и в чем должны состоять его «внешняя» и «внутренняя» жизнь, неизвестно. Обе эти стороны его образа предстоит выстраивать. Что же в этом смысле предлагает Ку:кай? В каких своих проявлениях человеку нового государства следует быть конфуцианцем, в каких - даосом, а в каких - буддистом? Об этом речь пойдет в следующей главе моего очерка.
Глава 4. Источники
В заключительной главе моего разбора «Санго: сиики» речь пойдет об источниках книги: о тех текстах, которые Ку:кай взял за основу описания «трех учений». Я попробую распределить эти источники по темам и вычленить некий план, по которому ведется рассказ о каждом из учений. Это поможет если не решить, то хотя бы поставить вопрос: какое конфуцианство, какой даосизм, какое направление буддизма Ку:кай имеет в виду? [327]
Едва ли возможно говорить о сколько-то последовательном, систематическом изложении трех учений в «Санго: сиики». Скорее, здесь представлены характерные понятия и образы, связанные с каждым из учений. При этом источником, контекстом для того или иного понятия вовсе не обязательно служит отрывок из текста соответствующего учения: например, какая-то мысль Конфуция может быть приведена по ее изложению в «Ле-цзы» (ККн 45). Особая роль принадлежит тем памятникам, которые не относятся к конфуцианству или даосизму, а стоят как бы над ними, стараясь достичь полноты освоения какого-то явления, что позволяет им задействовать разные и иногда даже прямо противоположные его трактовки. Таковы «трактаты» из «Записок историка» Сыма Цяня или некоторые поздние «песни»-фу: они разворачивают свой предмет, показывая его под всеми возможными углами зрения, а потому не могут оставаться в рамках одного учения.
С буддийскими сочинениями ситуация в чем-то похожая. Дело в том, что «внутренняя» полемика (например, между хинаяной и махаяной) так или иначе представлена в большинстве трактатов и сутр, вошедших в китайский буддийский канон. Часто раннее буддийское учение воспроизводится не по первоисточнику, а уже по критике его в махаяне. Более того, индийская мысль, основной адресат «внешней» буддийской полемики, тоже присутствует в сутрах. Это прежде всего касается таких понятий, как «я», «божество», неуничтожимая «душа» (парадоксально, но проповедникам буддийского учения в Китае пришлось сначала объяснить своим слушателям, в каком смысле говорится, будто душа есть, а уже потом обосновывать, что ее нет, ср. [Китайская философия, 507-508]). Таким образом, само цитирование того или иного текста в «Санго: сиики» еще не объясняет, ради чего Ку:кай будет использовать эту цитату. Кроме того, существует немало понятий, общих (хотя бы чисто внешне, словесно) всем трем учениям. Это, например, «Путь» (***, яп. до:, кит. дао), «мудрец» (***, яп. сэй, кит. шэн), «мудрость» (***, яп. ти, кит. чжи) и др.
Одно из общих мест в работах по истории японской мысли - то, что разные учения в Японии всегда сравнительно мирно уживались друг с другом. Причину этого усматривают в том, что буддизм никогда не стремился вытеснять или подавлять иные учения. С другой стороны, будучи заимствован вскоре после конфуцианства и почти одновременно с даосизмом, буддизм в Японии не дал этим двум учениям подавить, «растворить» себя, как то в конечном итоге произошло в Китае. Часто это объясняют характером собственно японской островной традиции. Здешний «путь богов» (***, яп. синто:) всегда был вне сравнений и вне соперничества. Заморские книжные учения так или иначе наслаивались на синто:, но ни одно не сумело с ним слиться - так, например, как в Китае конфуцианство и даосизм (каждое учение по-своему) были слиты с местной религией, с культом предков, земли и злаков, Неба и государя. Тема синтоистских [328] мотивов у Ку:кай - вне рамок моего исследования. Как бы то ни было, нет ничего неожиданного в том, что Ку:кай, как это и заявлено во «Введении», будет обосновывать сущностное единство трех учений, хотя сам, будучи монахом, безусловно отдаст предпочтение буддизму.
В «Санго: сиики» можно видеть уже и разметку будущих сфер влияния трех учений (о ней, напр. [Хори, 71 и слл.]). Конфуцианство отвечает за человека как существо общественное, за его роли в государстве и в семье (замечу, что имеется в виду та семья, которую государство желало бы видеть на месте рода с его предками-божествами). Такой человек должен блюсти верность своему господину по причинам, зависящим не от происхождения и обычая, а от закона и «правил», установленных государством. Область даосского учения - человек как природное существо, живая жизнь и способы ее продления - как внутренние (изменение отношения к жизни), так и внешние (с помощью снадобий). Даосы берут на себя те чудеса, которым государство позволяет существовать по краям обжитого мира: разного рода искусства, позволяющие выйти за пределы рядовых человеческих возможностей. И наконец, буддисты ставят вопрос о мире в целом как о чем-то мнимом, неподлинном. Они исследуют, что стоит за этой призрачной видимостью, углубляются внутрь человеческого сознания. Предмет буддийского учения - человек самодостаточный и одинокий, без опоры на род, семью и общественный статус, один на один с миром (и природным, и социальным). Причем мир этот лежит не вовне, а в самом человеке, присутствует в нем как сеть привязанностей и зависимостей, лишенная единого стержня, «самости», божества, «меня самого». Буддисты говорят о смерти, о воздаянии, о том, что будет после смерти, о том, как найти разные варианты «самого себя» и как от себя освободиться. Соответственно, трем учениям приписывают и три разных отношения к жизни, три настроения. О них говорит знаменитая притча про мудрецов, которые пробовали уксус и описывали его вкус. Если для последователей Конфуция жизнь представляется «кислой» (в ней есть острота, но острота эта хороша в умеренных дозах), то для даосов жизнь «сладка» (настолько сладка, что можно забыть обо всем, пить ее и пить, только бы подольше). А для буддистов в жизни главное - «горечь» (как горек чай, как горька мысль о смерти, как горько сознание своего несовершенства).
Мой вопрос: действительно ли Ку:кай в «Санго: сиики» заявляет именно такую точку зрения на три учения - ту, которая со временем станет расхожей и азбучной? И только ли ее? Моя задача: проследить три основные линии рассуждений, причем обратить особое внимание на то, что именно каждые два учения добавляют к освещению главных и самых трудных вопросов третьего. Я перечислю книги, наиболее значимые для традиции каждого из учений, и отмечу, в каких контекстах персонажи «Санго: сиики» цитируют «чужие» тексты, ссылаются на «чужие» концепции. Мне предстоит обсудить и приемы рассуждения, свойственные тому или иному [329] учению, и их общие подходы к ответу на вопрос: что плохо в мире и что следует изменить, а что в нем хорошо и что необходимо поддерживать.
На первый взгляд, общее у трех учений - это их взгляд на человеческие пороки. Ведь и адресат увещеваний трех наставников в «Санго: сиики» исходно один - непутевый юноша Сицуга (правда, по ходу дела два «учителя» сами переходят в разряд «учеников»). Человек до обучения выглядит не как «чистая доска», а как уже изрядно испорченное существо. В этом согласны все три наставника, но к порокам у них отношение разное. Для Кимо: дурные дела постыдны, поскольку ставят человека, «самое одухотворенное из существ», наравне с животным или даже с «деревом и камнем» (Кимо: 152-153, 164-165). Такие пороки - пьянство и обжорство (Кимо: 29, 122-127), похоть и леность (Кимо: 30, 128-137), страсть к охоте и к играм (Кимо: 23-24, 111-114) и др. У Кёму взгляд на все эти увлечения другой: как на чисто человеческие пороки, порожденные «цивилизацией», вредные для живой жизни. Здесь есть некая тонкая грань, где кончаются «счастье и богатство», предмет устремлений всех людей, и начинаются излишества. Наконец, Камэй-Коцудзи показывает, что от всех этих страстей можно отстраниться, но жизнь от этого не станет лучше, так как она сама по себе - страдание. Однако такой «горький» взгляд на человеческую жизнь вовсе не отменяет «пользы в этом мире», приносимой буддийским учением.
1. Конфуцианские источники
Начнем с общего плана основного конфуцианского раздела «Санго: сиики» - речи наставника Кимо:. После вступления (Кимо: 1-16) дан рассказ Токаку о племяннике (Кимо: 17-33) и его же рассуждение о пользе воспитания (Кимо: 34-37). Токаку просит о наставлении для Сицуга, Кимо: отказывается, но после повторной просьбы выражает подобающие сомнения в собственных силах и всё же соглашается (Кимо: 40-70). Речь он ведет сперва о человеческой природе и возможностях ее исправления (Кимо: 71-106). Далее перечисляются пороки юноши: алчность и распутство, пьянство, леность, нерадение в учебе (108-151). Между тем, неученый человек подобен скотине (Кимо: 152-153, 164-165), а истинно человеческое поведение - это то, которое согласуется с «правилами» (Кимо: 154-163). Если Сицуга возьмется за ученье, то сможет уподобиться образцовым почтительным детям и верным подданным прошлых времен (Кимо: 166-174), превзойдет величайших мастеров во всевозможных науках и умениях (Кимо: 175-200). Далее Кимо: ведет речь о «пяти постоянствах» конфуцианского учения (Кимо: 201-203), о силе письменного слова-вэнь (Кимо: 210-214), о будущих успехах Сицуга по службе (Кимо: 217-237), о радостях семейной [330] жизни (Кимо: 238-263), о дружбе и дружеских застольях (Кимо: 264-275). В заключение наставник ссылается на изречение Конфуция о том, что судьба грамотея в чем-то надежнее даже судьбы земледельца (Кимо: 280-284). Ку:кай описывает отклик Сицуга и Токаку на речь Кимо:, их решение обратиться к ученью.
Конфуцианские источники «Санго: сиики» - это прежде всего пять «канонов» (***, яп. ке:, кит. цзин). Их составителем - или редактором, или первооткрывателем их великого значения - числится Конфуций. Это «Книга перемен» («И Цзин»), «Книга песен» («Ши Цзин»), «Книга летописей» («Шу Цзин»), «Записки об обряде» («Ли Цзи»), «Вёсны и осени» («Чунь Цю»). Сюда же относятся три комментария к «Веснам и осеням»: «Толкования Цзо» («Цзо-чжуань»), «Толкования Гунъяна» («Гунъян-чжуань»), «Толкования Гуляна» («Гулян-чжуань»). Если добавить сюда «Обряды Чжоу» («Чжоу Ли»), то получится девять книг. Они составляли основу чиновничьего образования как в Китае, так и в Японии (ср. выше, гл. 1). К сочинениям, изученным самим Кимо:, причисляются также исторические труды: «Записки историка» («Ши Цзи») Сыма Цяня, «Летописи Хань» («Хань Шу») Бань Гу и «Летописи поздней Хань» («Хоу Хань Шу») Фань Е. Эти «девять книг» и «три исторических свода» названы в самом начале «Речи наставника Кимо:», в авторском описании ученого-конфуцианца. Заметим, что про Кёму и Камэй-Коцудзи прямо не сказано, кто из них знал какие книги, хотя из текста это и очевидно. А для монаха важнее его образ жизни, места его странствий, его друзья, а для даоса - общая таинственность и провокативность поведения. Но для конфуцианца круг его чтения, книги, освоенные и преподаваемые им, составляют главное, что он может предложить.
Из «канонов» первое место по числу цитат в «Санго: сиики» принадлежит «Книге песен». Ее цитируют все: не только Кимо:, но и Кёму, и Камэй-Коцудзи, и Токаку, и автор в своих ремарках. Само это песенное собрание упоминается в тексте как «Песни Чжоу» (***) - как наследие той праведной древней эпохи, которая сама по себе «канонична». Впрочем, именно в этом контексте во «Введении» «Книга песен» стоит в паре с «Чускими строфами» - два лучших образца вэнь, изящного слова. В качестве «канона», основополагающего текста для конфуцианской школы, «Песни» упоминаются в паре с «Обрядами» («Ли-цзи», ср. Кимо: 297).
Для понимания той роли, которая отводится «Песням» в воспитании, важно иметь в виду следующее место из «Бесед и суждений» Конфуция (XVI, 13, отсылку к нему см. Кимо: 141): «Если ты не будешь учить Стихи (= «Книгу песен» - Н. Т.), у тебя не будет ничего, о чем говорить» - указывает Кун-цзы своему сыну. В другом месте («Беседы и суждения», XVII, 9) эта мысль поясняется так: «Песни» надо знать, чтобы «...развить воображение и расширить кругозор, стать более общительным и научиться иронии. Из нее можно узнать, как вблизи служить отцу, а вдали - [331] правителю, как называются птицы и звери, травы и деревья» [Переломов, 427-428]. Хотелось бы здесь обратить внимание на слово, кит. ***, юань, яп. эн/ураму, в переводе Л. С. Переломова - «ирония». У Г. А. Ткаченко оно передано как «праведный гнев» [Ткаченко 1999, 255]. В комментарии Чжу Си это понятие объяснено как *** (кит. буну, яп. фудо), «не гневаться» [Переломов, 579]: научиться давать должную эмоциональную оценку тому, что происходит вокруг, а значит, перестать поддаваться сильным чувствам вроде гнева, злости, отчаяния и пр. У даосов чрезмерно сильные чувства тоже не считаются благом, буддисты также учат успокаивать страсти - и все признают, что «Книга песен» помогает такому научению.
В «Само: сиики» отсылки к «Книге песен» могут касаться «названий» для самых разных реакций на существа, вещи и явления. Среди них «горькие травы» (ККн 40; ККп 2), деревья (Кимо: 216) «синяя муха» (ПН 31), светлячки (Кимо: 137) «жадная мышь» (ПМ 22), птицы и особенно птичьи песни, переданные звукоподражанием (ККн 11, 317; ПН 63; ПМ 36, 120); одежда (Кимо: 153) колесница (Кёму 159; ККн 302), барабаны (ПМ 121; ККо 21), жилье (ККн 3) строящийся город (ККн 187); роса (Кёму 193), гром (Кёму 23), «Небесная река» (Кёму 147; ККн 166), «рассветные звезды» (В 28), звезда Ткачиха (Кёму 161) и др. Это могут быть и реакции на людей: доблестных мужей (Кимо: 161), пахарей (Кимо: 188), служилых (Кимо: 230; ККн 115), прекрасных женщин (Кимо: 242, 247; ПН 34), красивых юношей (Кёму 206). Особого внимания заслуживает несколько раз повторенная отсылка к песне «Цветы сливы» (II, I, 4), где речь идет о высокой оценке семейного согласия и братской любви (Кимо: 259, ККн 57, ПН 45, 57). Несколько раз цитируются песни, где говорится о приеме гостей (Кимо: 13, 266, 267), о людской молве (Кимо: 147, ПМ 28), о слезах (ККп 6 и др.). Есть и такие песни, где дается оценка самих чувств, по большей части эти места цитируются в речи Камэй-Коцудзи: это чувства скорби, горечи, того самого «праведного гнева», он же «ирония» (ККн 32, 108, 169, 200 ККп 13). Примечательно, что в «Песни о море» будду величают теми же словами, какими в «Книге песен» сказано о «Верховном владыке» Шан-ди (ПМ 100). Похожим образом похвала государю Яо из «Бесед и суждений» (VIII, 19) цитируется применительно к будде (ПМ 78). Способ почитать кого-то как великого государя задан конфуцианской классикой, соответствующее чувство воспитано - и без особой натяжки это чувство теперь может быть перенесено на другую, более подобающую с точки зрения монаха особу, на Просветленного.
Отсылки к пяти песням из «Ши-цзин» прямо даны в самом тексте «Санго: сиики» - три у Кимо: и две у Камэй-Коцудзи. У Кимо: они входят в описание приготовлений к свадьбе («Песня девушки, собиравшей сливы» 20, I, II, 9, Кимо: 242) а также в изображение дружеской пирушки [332] (песня «На пиру у князя», IV, IV, 2, Кима: 270, и «Песня девушки, отвергающей жениха» I, II, 6, Камо: 271). Последние две песни уместно петь в обществе друзей, при застолье. Таким образом, цитата эта отсылает не просто к «Книге песен», но и к способу ее бытования: «Ши-цзин» не только воспитывает чувства, но и дает удобную форму для их обнародования.
Буддийский монах примеривает на себя две песни из «Малых од» (песни «Кувшинки-цветы», II, V, 8, ККн 95, 99, 101, и «Южные горы», она же «Жертвоприношение предкам», II, VI, 6, ККн 100). Камэй-Коцудзи говорит, что без стыда и тоски не может повторять эти песни («читать», ***, кит. юн, яп. эй, и «возглашать», ***, кит. гэ, яп. ка - тж. «петь») - здесь снова дается отсылка к живому звучанию «Песен». Во второй из них говорится о счастливой судьбе почтительного сына: он трудится в поле, собирает урожай и творит обряд своим предкам. Ничего этого нет и уже не будет в судьбе нищего странника, «вышедшего из дому». В песне «Кувшинки-цветы» речь идет о родительской заботе и о неоплатном долге перед родителями. Позже, в «Песни о непостоянстве», Камэй-Коцудзи так же, как факт своей читательской биографии, упоминает два сочинения сравнительно недавних времен: «Песню-плач по умершей» Пань Юэ (из собрания «Изящная словесность») и «Искусство циня» (ПН, 78-79): монах и сам поэт, для него «Книга песен», как и стихи из позднейших собраний, - не только источник для воспитания чувства, но и побуждение к собственному стихотворству.
Когда в «Санго: сиики» цитируются «Записки об обряде» (Кимо: 154-163; ККн 74-76), то приводятся не отдельные слова, а достаточно длинные выдержки. Большей частью они взяты из главы «Цюй ли» (ч. 1 и 2): это примеры «обряда», он же «церемонии», «благопристойность», правила должного поведения (***, кит. ли, яп. рэй). Тот же отрывок из «Бесед и суждений», о котором я говорила выше (XVI, 13, Кимо: 141), так определяет значение «Ли цзи»: «Если ты не будешь учить Правила (изложенные в «Записках об обряде» - Н. Т.), у тебя не будет ничего, на чем утвердиться». Как известно, Конфуций не велел своим ученикам смотреть на то, что не соответствует ли, слушать, говорить, делать то, что не соответствует ли («Беседы и суждения», XII, I). К правилам, напрямую названным в «Санго: сиики», относятся приветствие родителей, уход за ними (ККн 74-76), сдержанная собранность при болезни родных (Кимо: 154, 158), скорбь при трауре у соседей (Кимо: 156). Всё это - сознательно упорядоченное поведение, одобряемое людским сообществом, отличающее человека от животного (Кимо: 165). Впрочем, Камэй-Коцудзи приводит примеры того, как птицы и звери тоже совершают нечто похожее на «обряд» (ККн 102-103) - множество таких примеров содержится в «Веснах и осенях Люй Бувэя» 21. И [333] все же для последователей Конфуция «обряд» - это нечто, присущее именно человеку. Здесь важный контекст - рассуждение Сюнь-цзы, цитируемое у Сыма Цяня в «Трактате об обрядах» (глава 23-я «Записок историка»): «Обряды берут свое начало в самом человеке. Человек от рождения обладает желаниями; а если желания [людей] не находят своего удовлетворения, то обязательно возникает недовольство; когда недовольство не имеет предела, возникает соперничество, соперничество же приводит к смуте...». Государи древности «...установили нормы поведения и правила долга, чтобы воспитывать человеческие желания и удовлетворять человеческие потребности, чтобы желания людей не истощались в вещах, а вещи не исчерпывались от людских желаний» [Сыма Цянь IV, 63]. Возвышения и падения древних царств учат, что «в установлении обрядов и норм поведения (ли) надо исходить из чувств (***, кит. цин, яп. сэй) человека, а в выработке ритуала (***, кит. цин, яп. ги) надо основываться на природе (***, кит. син, яп. сэй) человека» [Сыма Цянь IV, 60]. По Сюнь-цзы, осуществление обряда можно считать не простым исполнением однажды предписанных правил, а своего рода творчеством человеческих властителей: в этом деле возможно преуспеть или потерпеть поражение в зависимости от того, истинно ли было лежавшее в его основе понимание чувств людей и человеческой природы.
Особое место принадлежит таким главам «Записок об обряде», как «Чжун юн», «Да сюэ» (позднее в конфуцианстве они выделятся как самостоятельные книги) и «Сюэ-цзи» («Записки об обучении»). Именно к «Сюэ-цзи» относятся две важнейшие цитаты по теме ученичества и наставничества: «Пока человек не научился, ему не познать истины» (Кимо: 102) и «Если учиться в одиночестве, не имея товарищей, кругозор будет ограничен, а познания скудны» (ККн 194). Связь между такими двумя темами как «образование» и «выбор компании» становится одной из ключевых для конфуцианского раздела «Санго: сиики» (ср. ниже).
К теме «обряда» примыкают также «Книга почтительности» и «Предания о почтительных детях», где обсуждается понятие «сыновней почтительности». «Почтительность» (***, яп. ко:, кит. сяо) в паре с «верностью» (***, яп. то:, кит. чжун) - два наиболее важных понятия конфуцианского учения в «Санго: сиики». Им принадлежит даже большая роль, чем «пяти постоянствам» (см. ниже). «Верность и почтительность» специально обсуждаются и в речи Кимо:, и в предыстории Камэй-Коцудзи. «Почтительность» охватывает «три связи»: отношения детей и родителей, супругов, братьев (или друзей), описывает должное поведение человека в семье. «Верность» определяет отношение между подданным и господином. «Почтительность» и «верность» тесно связаны, ибо «очень мало бывает людей, которые, обладая сыновней почтительностью и любовью к старшим братьям, склонны выступать против высших» («Беседы и суждения» I, 2: это место в «Санго: сиики» прямо не цитируется, но отсылка к нему дается - Кимо: 18). Дважды [334] говорится о том, что, взрослея, человек «меняет почтительность на верность» (Кима: 227, ККн 78) и обязанности службы для него занимают не менее важное место, нежели обязанности родства.
Показательно, что примеры почтительных детей и верных подданных в «Санго: сиики» в значительной своей части отсылают к тому, как действовать наперекор внешним обстоятельствам. «Почтительность» прекрасна, даже если сами родители дурно обходятся с сыном (как мачеха Ван Сяна - Кимо: 169) или если они уже давно мертвы (как у Дин Ланя - Кимо: 170). Главный образец почтительного сына - древний Шунь - также претерпел от своих родных неисчислимые издевательства (ККн 78). «Верность» особенно достойна, если за нее приходится поплатиться карьерой (как Люся Хуэй - Кимо: 190) или самой жизнью (как Би-гань - Кимо: 174). В пределе эта точка зрения выражена в речи Камэй-Коцудзи, когда он в ответ на упреки в утрате «верности и почтительности» ссылается на пример Тай-бо. Конфуций высоко ценил этого праведного мужа. Но лучшее, что Тай-бо смог сделать для своих родичей, они же и господа (отец - чжоуский Тай-ван, младший брат - Цзи-ли, назначенный преемником отца) - это добровольно уйти в изгнание, дабы избежать споров о наследовании. Примерно так же и буддист, сознавая, что семейные и общественные связи несут в себе больше горя, чем счастья, «уходит из дому», чтобы издалека заботиться о родных и о государе - читая сутры, подвижничая, проповедуя учение.
Из «Книги перемен» цитируется в основном раздел «Прилагаемые суждения». Темы преимущественно те, которые значимы для конфуцианской школы: Небо и его «образы», запечатленные в слове-вэнь (В 2), «мудрецы» (ККн 83), «благородные мужи» (Кёму 33), слава и позор (Кимо: 148), дружба (ККн 57, ПН 59). Несколько раз отсылки даются к отдельным гексаграммам «И-цзин» (Кимо: 5, 279 Кёму 143, ККн 168, 214, ПН 110, ККп 43 ПМ 56). Из них особое значение имеют первые две: «цянь» и «кунь», соответствующие Небу и Земле - но эта отсылка дается уже в даосском контексте (Кёму 143). Что касается цитат из «Книги летописей», а также «Весен и осеней» и комментариев к этой книге («Толкований Цзо» и других), то эти цитаты в основном содержат слова, обозначающие некие действия и даже более отвлеченно - способы действий: «побудить» (В II), «подвигнуть» (В 36), «лениться» (В 16), «замышлять» (Кимо: 78), «стараться» (Кимо: 287) и др. Назидательное значение летописей как раз в том, чтобы «назвать своими именами», а тем самым оценить, поступки людей древности.
В «Санго: сиики», разумеется, цитируются и «Беседы и суждения» Конфуция. Сам Кун-цзы упоминается во «Введении» и в заключительной песне - как один из трех мудрецов, а в предыстории Камэй-Коцудзи - еще как неприхотливый человек, готовый спать, положив голову на локоть, и опять-таки как учитель, не сумевший сохранить покоя в непрестанных [335] поисках места для приложения своих сил к государственной службе (ККн 128). Явная цитата одна: «У Кун-цзы есть слова: "Даже пахари, бывает, голодают. А те, кто учится, получают жалование"» (XV, 32, Кимо: 282). Вслед за Конфуцием определяются цели, к которым стремятся все люди: «богатство и знатность» (IV, 5, ККн 56), избегание «бедности и презрения» (IV, 5, Кимо: 83). Впрочем, нечестно полученные богатства и почести, по Кун-цзы, подобны мимолетным облакам (VII, 16, Кёму 182) - здесь с ним согласились бы и даос, и буддист, только уточнили бы: таковы любые богатства и любые почести.
Из моего «Комментария» можно видеть, что традиция японских толкований к «Само: сиики» связывает понятие «Пути» (Дао) скорее с контекстами из «Бесед и суждений» (XV, 25 - Кимо: 54; XVII, 4 - ККн 242; IV, 15 - ККп 28), хотя в самом тексте «Путь» относится и к даосскому (ККо 26) и к буддийскому учению (ККн 6 и др.). Цитируются некоторые места из «Бесед и суждений», связанные с «пятью постоянствами» (см. ниже), упоминаются персонажи бесед Конфуция, такие, как Чжоу-гун (ККн 89), Люся Хуэй (Кимо: 190), ученик Кун-цзы Янь Хуэй (Кёму 62), Тай-бо (ККн 145), Гао-цзун (ККп 15). Примечательно, что в связи с вэнь отсылка дается к тому месту, где Конфуций советует отложить книжные занятия «на потом» (I, 6 - ККн 174) - после того, как будут освоены почтительность, правдивость и любовь к людям. Тем самым оказывается, что поход за подаянием для монаха в чем-то служит проявлением конфуцианской «почтительности» и «человечности», коль скоро он не просто просит милостыню, а взамен читает свои стихи и проповедует. Наконец, большое число цитат из «Бесед и суждений» относится к ремаркам, репликам вроде «Как это верно» (Кимо: 283-284, 289, Кёму 7, 19, 93, ККн 69 и др.). К ним примыкает и фраза Конфуция, процитированная «навыворот» даосом Кёму: если понять «недеяние», то потом изучить все остальное будет так же легко, как «глянуть на ладонь» (III, 11 - Кёму 106) - у Кун-цзы речь шла как раз о деянии, и притом очень важном - о жертвоприношении ди.
Книги «Сюнь-цзы» и «Мэн-цзы» цитируются сравнительно мало, но цитаты эти - наиболее ударные места, они выражают суть того переосмысления, какому подверглось учение Кун-цзы в трудах этих двух его последователей. Из «Сюнь-цзы» особенно важна цитата о полыни и конопле (Кимо: 37): она относится к теме образования как выбора компании. Спутанная полынь, растя среди прямой конопли, выпрямляется сама, без подпорок: так образцом для молодого человека может служить мудрый наставник. Соответственно, ученье нужно не только для житейских нужд - чтобы стать хорошим семьянином или сподвижником государя. Оно позволяет сделаться ученым, достигнуть «совершенства», некой самодостаточности, причем изменяются не только речь, поведение, отношение к окружающим, но и тело, и чувства: ученый становится мудрецом, с [336] которым бессильны справиться и власти, и народ, и сама Поднебесная. И теперь уже люди, живущие рядом, не могут не «выравниваться» по его образцу [Феоктистов, 175-181].
Из «Мэн-цзы» хотелось бы обратить внимание на цитаты, где неученый человек сравнивается с животным (Кимо: 152, 164, ККн 93). Требования здесь примерно те же (быть почтительным, человечным), но оценка их иная: «мудрец» обретает не сверхчеловеческое «совершенство», но лишь некий минимум свойств, необходимых для того, чтобы считаться человеком. Заметим, что «Мэн-цзы» цитируется и в связи с тем, что милосердным надо быть к птицам и зверям (ККо 28) - контекст, в который помещена цитата, явно буддийский.
Другие сочинения конфуцианской направленности, цитируемые в «Санго: сиики», - это «Беседы школы Конфуция», «Домашние наставления рода Янь», «Записки о начале обучения», а также разделы о Конфуции и его роде и об учениках Конфуция из «Исторических записок» Сыма Цяня (главы 47-ая и 67-ая).
К теме обучения на благих примерах имеют прямое отношение и отсылки к сочинениям историков: Сыма Цяня и его продолжателей. Как правило, имеются в виду хрестоматийные эпизоды из жизни знаменитых людей прошлого, зашифрованные именами этих людей. Здесь хотелось бы обратить внимание на мотив соревнования с великими, звучащий в речи Кимо: и в словах безымянного собеседника Камэй-Коцудзи из предыстории монаха. Учиться - значит равняться на какой-то образец, как указывает и Сюнь-цзы. Но цель учения в том, чтобы этот образец превзойти. Вспомним перечисление Кимо:, в каких именно областях юноша Сицуга может достичь успехов (Кимо: 175-200). Это знание канонов и летописания, каллиграфия, стрельба из лука, военная стратегия, земледелие, чиновничья служба, врачевание, ремесло. Соответственно, упоминаемые персонажи, которых превзойдет Сицуга, - не столько личности, сколько функции: великие ученые, воины, сановники и т.д. В этом качестве они и попали в летописи, в раздел «жизнеописаний» - как у Сыма Цяня, так и у позднейших историографов [Кроль 255-258]. Но все эти социальные роли, каждая из которых дает и славу, и почет, не следует понимать как самоцель. Главное, что дает ученье, - это не набор знаний, а умение избрать себе хорошее окружение: наставников и товарищей в поисках того, как стать лучше, ближе к имени «человек».
Заметим, что схожий мотив сравнения с образцами будет потом воспроизведен и у Кёму, но у него место исторических лиц (хотя бы и легендарных) займут божества и «бессмертные». Их надо не «превзойти», а «встретиться» с ними, чтобы от них получить некое чудесное могущество. Камэй-Коцудзи тоже приводит примеры, на кого равняться: это Тай-бо, Саттва (персонаж одной из буддийских сутр) и др. Но важнее для монаха иное основание для сравнения: каждого из нас можно [337] поставить в ряд с великими мужами древности хотя бы в том, что они умерли - как и мы умрем. Доброе имя, долгая память в веках, как и дурная слава и злословие потомков, - всё это образует менее прочную общность между древними и нами, нежели наша общая недолговечность. Так и «пять постоянств» конфуцианского учения перекрываются одним всеобщим «непостоянством», о котором речь впереди. Что же касается учителя, к кому примкнуть, и образцов, на которые равняться, то для буддиста это будда, которому можно не то что «уподобиться», а буквально «стать» им, обретя просветление. И это значит больше, чем стать «мудрецом» вообще - стать именно этим мудрецом, Просветленным. Другой образец - это бодхисаттвы, кто мог бы выйти из мира, но не делает этого, пока не просветлены все существа. Бодхисаттв не нужно «превосходить», но с ними можно делать одно общее дело. Здесь показательно, что и Кимо: говорит юноше Сицуга о том, что даже малые успехи на пути почитания будды уже означают достижение цели (Кимо: 139).
Еще во «Введении» тема конфуцианского воспитания была задана отсылкой к «пяти постоянствам» (***, яп. годзё:, кит. учан) Список этих пяти понятий дан в речи Кимо: (Кимо: 202-203). Объединяет их образ дома. Правда, начинается перечень не с них, а с «Пути» и «Добродетели» («Доблести»). Итак, говорит Кимо: юноше Сицуга, нужно выбрать место и построить дом. «Настели там Путь (***, яп. до:, кит. дао) вместо пола, уложи доблесть (***, яп. току, кит. дэ) как постель, садись на человечность (***, яп. нину кит. жэнь), как на подушку, обопрись на долг (***, яп. ги, кит. и), как на изголовье. Усни, укрывшись обрядом (***, яп. рэй, кит. ли), оденься в верность (***, яп. син, кит. синь), когда соберешься выйти». Таким образом, «постоянства» мыслятся не как какая-то программа, которую надо исполнить, не как требования, которым надо соответствовать, а скорее, как составные части среды, благоприятной для почтительного сына и верного подданного. Надо не столько следовать им, сколько окружить себя ими: снова речь идет о выборе подобающей компании. И поскольку сосуществование трех учений - дело необходимое, постольку очень важным оказывается подчеркнуть, что другие два учения не отрицают конфуцианских «постоянств», как не отменяют и «верности», и «почтительности». Кёму говорит, что даосы не нарушают их (Кёму 99), как не отвергают и буддийского «сострадания»; Камэй-Коцудзи в споре с неизвестным по имени собеседником говорит об этом же применительно к монахам. Отметим сходство между образом дома, составленного из «постоянств», и тем, как описаны сборы Камэй-Коцудзи на беседу, как на бой (ККн 208-215). Меч монаха - это «мудрость-разумение» (***, яп. тиэ, кит. чжихуэй), доспехи - «сокрытие-избегание» (***, яп. ниннику, кит. жэньжу), а конь - «сострадание-жалость» (***, яп. дзихи, кит. цыбэй).
Хотелось бы привести для сравнения фрагмент из более позднего сочинения Ко:бо:-дайси, «Драгоценного ключа к тайному хранилищу» [338] («Хидзо: хо:яку») - здесь рассуждение касается соотнесения «пяти постоянств» с пятью буддийскими заповедями. «"Человечностью" называется: не причинять вреда живому. Это значит - давать другим те вещи, в которых сам нуждаешься. "Долгом" называется: не воровать. Это значит - собирать и быть в состоянии отдать. Когда говорят "обряд", то это значит: не допускать разврата. Это - то же самое, что соблюдение пяти обрядов 22. "Мудрость": не бесчинствовать. Спокойно рассуждать и решать. "Искренность" означает: не лгать; сказанное непременно исполнять... Когда страна следует им, то Поднебесная вскоре приходит к миру. Когда им следует семья, то никто не подбирает оброненные куски... Вовне это обозначается как пять постоянств, внутри - как пять заповедей. Имена различны, однако смысл, применение и соблюдение - тождественны, польза - одинакова» [Трубникова 2000, 219].
В целом можно сказать, что главной конфуцианской темой в «Саго: сиики» стала тема образования и воспитания как «выбора компании». Суть не в том, чтобы освоить какие-то знания или добиться каких-то успехов, а в том, чтобы оказаться в благоприятном окружении. Пусть даже это будет умозрительный круг знакомцев, книжники и люди из книг, умозрительное жилище, построенное из понятий, опыт чтения и рассуждения о прочитанном, а не опыт действия. Всё равно государству нужны ученые люди, хотя бы потому, что их личные устремления лежат в области, далекой от насущной действительности, в области должного. А значит, им скорее можно доверять, нежели тем, кто претендует на свою долю власти по праву знатного или по праву сильного. Что же касается частной жизни - то когда круг общения составляют собратья по ученью, то опять- таки легче определить взаимные притязания, проще распределить роли, поскольку задан общий источник этих ролей. Можно спорить о трактовке того или другого понятия - но достигнуто главное: спор идет уже о словах, а не о праве сказать и навязать другим свое слово. Таково значение учения как прибежища, куда всегда можно «вернуться» в поисках общего языка.
2. Даосские источники
Первенство среди даосских источников в «Трех учениях...» принадлежит сочинению Гэ Хуна «Баопу-цзы». По моим подсчетам, это вообще самый цитируемый текст в «Санго: сиики». Из него взяты и общие установки для речи отшельника Кёму, и ключевые понятия по отдельным [339] направлениям: отношение к «божествам» (***, кит. шэнь, яп. син/ками) и «бессмертным» (***, кит. сянь, яп. сэн), названия снадобий, описания странствий в горах и др. Цитаты из «Баопу-цзы» встречаются и в речах других персонажей. Само сочетание «указывают и направляют» в названии книги тоже отсылает к «Баопу-цзы» (ср. выше, гл. 3). Вне речи Кёму словами Гэ Хуна выражены некоторые мысли, значимые для всех трех учений: настоящих мудрецов мало, как рогов у единорога-цилиня, при том что и самих-то цилиней мало (Кимо: 75); даже животные могут превращаться друг в друга (тот же мотив часто повторяется в «Веснах и осенях Люй Бувэя») - и тем более неправы те маловеры, кто считает, будто человек не может измениться (Кимо: 290); человек - «самое одухотворенное» из существ (ККн 49). «Одухотворенное» (***, кит. лин, яп. рё: или рэй) здесь означает также и «чудесное». Примечательно, что для понятия «души», отрицаемой буддийским учением, китайские авторы обычно берут знак ***: он же - даосское «божество», и его же в Японии использовали для записи слова ками. А знак *** оказался вполне уместным для обозначения буддийских чудес, например, в заглавии книги «Нихон рё:ики» (ср. выше, гл. 1).
Основополагающая книга даосизма, «Дао-дэ-цзин», представлена следующими отрывками: 1, 4, 10, 13, 15, 25, 27, 33, 59. В первом говорится о том, что безымянное начало Неба и Земли можно созерцать, если не иметь желаний (Кёму 171). В четвертом речь идет о том, что Дао «смягчает свой блеск» (Кёму 3). Десятый повествует о «самочности» таинственного мирового начала и о «небесных вратах» (Кёму 130). Тринадцатый отрывок указывает, что слава и позор одинаково страшны (ПМ 50). К пятнадцатому восходят понятия «таинственного» и «тонкого» (ПН 24), к двадцать пятому - «беззвучного» и «безвидного» (ПН 6, ПМ 97). В двадцать седьмом отрывке совершенномудрый «сохраняет» существа (ККн 309), а умелый привратник запирает ворота без засовов (ККп 46). Тридцать третий учит «знать меру» (ККн 177) и не действовать прежде чем дождешься надлежащих условий, ибо «сильный ветер не продолжается все утро» (ККо 30). Пятьдесят девятый говорит о «долговечности» Дао (Кёму 65). Цитируются также двенадцатый (В 3), двадцатый (ПМ 94) и двадцать девятый (ПМ 3) отрывки, однако выдержки из них неясны вне контекста. Заметим, что Кимо: вообще не цитирует «Дао-дэ-цзин».
Отсылки к другой важнейшей для даосов книге, «Чжуан-цзы», можно условно поделить на три части. Первая - это возражения конфуцианскому учению. В частности, это касается «пяти постоянств» и «трех связей»: они, по Чжуан-цзы, связывают и уродуют человека. На самом деле постоянны только его природные свойства, но они не имеют ничего общего с «человечностью» и «долгом» (В 39). Людские «обряды» тщетны (Кимо: 238, ККн 158, 234), как тщетна и книжная премудрость (Кёму 63, ККн 201, 206), негодные средства познания подобны «короткой веревке» для [340] глубокого колодца (Кёму 37). Вторая часть - это собственно даосские образы: «странствия в беспредельном» (Кёму 59, ККн 42), безличный и безразличный ход вещей в мире (Кёму 6/), «высшие природные свойства» - пустота, покой, недеяние (Кёму 171). В чем-то «Чжуан-цзы» может считаться источником более позднего даосского учения о «питании жизни»: здесь можно найти слова о живой телесной природе, для которой «человек» - это только «форма» (ККн 10, ПН 10). Здесь же есть и слова о вреде чрезмерного жара и холода (Кёму 115, ПМ 97), о том, как дыхание связано с долголетием (Кёму 128). Но Чжуан-цзы говорил и о смерти как о возвращении в «истинный дом» (Кимо: 239) - один из его уроков тот, что никакие учения, в том числе и даосские, не годятся в качестве последней истины. Сюда примыкают и почти буддийские по своему звучанию высказывания Чжуан-цзы о непостоянстве и мировом круговороте (ККн 259, 260, 265): получается, что мысль, способная соответствовать этому круговороту, - это смятенная мысль, и мудрец, соразмеривший себя с непостоянством, выглядит как безумец. Третью часть составляют отсылки к притчам: о Фениксе и сове (Кёму 103, 165 ККн 226, 227, ПМ 34), о черепахе, которой лучше волочить хвост по грязи, чем стать мертвым панцырем для государева гадания (ККн 12) о пескаре, который погибал без воды (ККн 104) о мастере-колеснике (ККн 212), о цапле и утке (ККн 236), о Чжуан-цзы и черепе (ККо 17), о похоронах Чжуан-цзы (ПН 33).
Из «Ле-цзы» особенно важна цитата о деревьях, пересаженных на другой берег реки и одичавших там (Кимо: 36): эта притча содержит косвенное возражение фразе Сюнь-цзы о полыни и конопле. Примечательны также отрывки, касающиеся маргинального, странного образа жизни: нищенства (ККн 18), отшельничества (ККн 36). Из «Хуайнань-цзы» берутся предания и притчи о великих мастерах, достигших совершенства в каком-нибудь искусстве (Кимо: 184, 185, 196), об обладателе чудесного зрения (Кимо: 106), о бессмертных (Кёму 162), о разных чудесных свойства вещей - и о «превращениях», следуя которым, даосский мудрец обретает свое безумие и свое благо (ККо 26). Даются отсылки и к легендам о даосских мудрецах из «Жизнеописаний бессмертных» («Лесянь-чжуань») и «Преданий о божествах и бессмертных» («Шэньсянь-чжуань»). Кроме того, в речи Кёму цитируется глава 28-ая «Записок историка» Сыма Цяня («Трактат о жертвоприношениях Небу и Земле»): из нее взяты рассказы о том, как искали бессмертия великие китайские государи, циньский Шихуан-ди и ханский У-ди. Ку:кай привлекает также отрывки из книг по даосскому травничеству и способам продления жизни: таковы «Книга трав» («Бяньцао-цзин») и трактат Цзи Кана «О питании жизни» («Яншэн-лунь»). Несколько раз косвенно цитируются даосские легенды из «Жизнеописания Сына Неба Му» («Му Тянь-цзы чжуань») и «Внутреннего предания о Ханьском У-ди» («Хань У-ди нэй-чжуань»). Особое место принадлежит стихотворениям из «Изборника» и [341] других собраний, где так или иначе звучат мотивы даосских странствий (песня «Странствия к бессмертным» Го Пу и др.).
Главные понятия для обозначения даосского учения - это «божественное искусство бессмертия» (***, яп. фуси-но синдзюцу, Кёму 49), «чудесная тайна долгой жизни» (***, яп. тё:сэй-но химицу, Кёму 50), «способы питания жизни» яп. ё:сэй-но ката, Кёму 64), «искусство долгого существования» (***, яп. кю:дзай-но дзюцу, Кёму 65). Чтобы получить это искусство, нужно сперва принести клятву о неразглашении и скрепить ее, смазав губы жертвенной кровью. В «Баопу-цзы» настойчиво повторяется: кровавая клятва обязательна для желающих приобщиться к учению. Такую клятву дают и персонажи «Санго: сиики».
Наука Кёму похожа на весенний гром: она будит от дремоты, ошарашивает. Подобно грому, даосское учение не щадит чувства людей, к уму же их не взывает вовсе. Правда, глухие не слышат даже грозы, слепцы не могут разглядеть и солнечного света - так и большинство людей со всем их разумением глухи и слепы для Пути-Дао. Цели даосского учения таковы, что уразуметь их в самом деле нелегко: это и продление жизни, и ее наполнение, ускорение жизненных процессов, в частности - передвижения, чтобы летать, подобно дракону. Мера долголетия - не земные, но вселенские сроки: «Встанете вы в ряд с тремя светилами - таковы будут ваши начало и конец» (Кёму 54). Учителя, на которых надо равняться, - не мирские мудрецы, но «бессмертные». Встречи с бессмертными предполагают путешествие в дальние чудесные земли, на острова Пэнлай, Фанчжан и Иньчжоу (не забудем, что за тем же «восточном морем», что и эти загадочные края, для Китая лежат и Японские острова).
Если, по учению даосов, Путь ведет к бессмертию, то как они ответят на вопрос: почему лучшие, достойнейшие люди умирают молодыми? Примеры людей добродетельных, но рано умерших, - Сян То, в семилетием возрасте наставлявший Конфуция, и ученик Конфуция Янь Хуэй, «больше всех любивший учиться». А знаменитые даосские долгожители, Чи Сун-цзы и Ван Цзы-цяо, внешне не отличались от самых обычных людей. Дело в том, что жизнь, как ее понимают даосы, безжалостна и безразлична в своей естественной самодостаточности. Кто умеет «беречь жизнь», живет долго, кто не умеет - умирает молодым.
Бессмертия искали древние государи Цинь Шихуан и ханьский У-ди - но, как известно, не нашли. Кажется странным такое восхваление своего учения: если прямо говорится, что даже великие властители со всем их могуществом и богатством не достигли успеха, то где уж обычным людям! Но, по словам Кёму, как раз государям идти по Пути труднее всего. И причина не только в том, что они «по внешним делам уподоблялись подлому люду» (Кёму 68). Хуже другое: для государей даосское учение было лишь одним, хотя, быть может, и самым сильным, источником необыденных ощущений, позволяющих забыться, отбросить страх [342] смерти (а может быть, и вовсе изжить его и сделаться бессмертным). Но как раз погоня за сильными чувствами есть наиболее вредный образ поведения: вредны и громкая музыка, и яркие цвета, и вкусные яства, и любовь красавиц, и жестокие военные забавы (Кёму 69-73). Настоящий последователь Пути избегает не только смертоубийства и распутства, роскоши и шума, но и любых сильных чувств. Внешним своим поведением даосский подвижник мог бы удовлетворить самым строгим требованиям конфуцианской «человечности» (в смысле Мэн-цзы) или буддийского монашеского устава: он старается не причинять вреда даже насекомым, сдерживает все свои телесные проявления, избегает злословия, алчности, всякой нечистоты (Кёму 94-98).
«Недеяние» (***, яп. муи, кит. увэй), говорит Кёму, - главное, что нужно постичь, ища Пути. Каких же именно «деяний» при этом следует избегать? Следуя «Баопу-цзы», Кёму обращает внимание прежде всего на соблюдение некоторых запретов: не вкушать обильной злаковой пищи, пряностей, опьяняющих напитков, мяса и рыбы, не поддаваться влиянию женской красоты, музыки, не впадать в чрезмерное веселье или горе. Обратим внимание на «боевые» образы у Кёму: перечисленные соблазны сравниваются с различными видами оружия (с мечом, пикой, топором, секирой). Главное же сражение происходит внутри человека, не с соблазнами как таковыми, а с собственной тягой к ним (Кёму 116-117).
И все же жизнь как вечная борьба, пусть даже с самим собою, - не то, чему учат даосы. Возникает еще одна тема: «легкость» даосского Пути. По «Баопу-цзы», «трудное» в даосском образе жизни - это отказ от государственной службы и семейной жизни, от славы и богатства, шума и блеска, следование одной лишь своей природе, безразличие к клевете или похвалам, к богатству или нищете. «Легкое» - свобода от всяческих условностей и церемоний, возможность пренебречь науками, не читать книг, ни о чем не тревожиться и не печалиться (Кёму 118).
Из прикладных задач даосского искусства на первом месте стоит «изгнание внутренних недугов» с помощью снадобий (Кёму 119-125). Названы четыре главных снадобья: «стоголовник», «желтое семя», «сосновая смола» и «плоды бумажного дерева». Речь идет казалось бы, об обычных растениях, но им присущи чудесные свойства. Следующая задача - «избавление от внешних опасностей» с помощью «божественных оберегов»: «полыни-стрелы» и «тростника-пики». Важно и телесное совершенствование: овладение дыханием, регулирование скорости жизненных процессов, поиски животворных источников - то ли в дальних горах, то ли в собственном теле (Кёму 130). Представляется, что в «Само: сиики» не ставится вопрос о том, следует ли понимать даосские странствия в буквальном смысле или же речь идет о внутренних, умозрительных упражнениях. Видимо, возможно и то, и другое толкование. Главное в том, что окружающий мир предстает для искателя бессмертия как [343] некий набор средств, одни из которых продлевают жизнь, другие - укорачивают ее 23.
В таинственных уединенных землях можно встретить действительно чудесные существа: грибы-чжи (***, яп. си), «травяные» и «плотяные», некоторые из которых способны принимать вид черепах, летучих мышей, жаб и др. Пожалуй, внимание именно к этим «грибам» наиболее показательно: на их примере видно, что, как сказано еще у Чжуан-цзы, «свойства вещей беспредельны» (В 42), а внешний облик может быть сколь угодно обманчив. А еще есть «пахима», вещество, которое получается из тысячелетней сосновой или кипарисовой смолы: пример того, как проходящие годы и «превращения» позволяют проявиться скрытым свойствам самого обычного, казалось бы, вещества (ср. ККо 26). А еще существует «гриб могущества и радости», он вырастает на пахиме по прошествии десяти тысяч лет и способен сделать человека неуязвимым.
У того, кто успешно соблюдал запреты и упражнялся, кто обрел и должным образом использовал снадобья, раскрываются чудесные способности, заложенные в его собственной телесной природе. Такой человек более не отбрасывает тени, видит в темноте и сквозь толщу земли, ходит по воде, божества и духи служат ему, драконы возят его повозку. «Духи» (***, яп. ки/они, кит. гуй), о которых здесь идет речь, обычно толкуются как «злые» существа в отличие от «добрых» - ***, шэнь.
«Золото» и «киноварь», два главных чудесных снадобья, достаются лишь тому, кто превзошел все тонкости даосского искусства. «Белое» (серебро) и «желтое» (золото) ставятся в соответствие «Цянь» и «Кунь», двум главным гексаграммам из «Книги перемен» (Кёму 143). Киноварь именуется «одухотвореннейшим» из снадобий (вспомним, что человек - «самое одухотворенное» из существ). Прием «одушевленной киновари» дарует долголетие, равное долголетию Неба и Земли, а «переплавленная киноварь» уже через десять дней приносит бессмертие. Готовить эти снадобья следует по определенным весьма сложным правилам: надо уединиться в горах с тремя, но не более, спутниками, поститься сто дней, вдыхать особые благовония, устраняться от всякой нечистоты - и особенно избегать присутствия посторонних лиц, чье «злословие» способно свести весь опыт на нет. Прием снадобий позволяет приобщиться к пустоте, дает способность к [344] полету, омоложение, долголетие и бессмертие (Кёму 146-155). Идет ли речь здесь о «внутренней» даосской алхимии (умозрительной), или о «внешней», предполагающей действительные опыты с веществами, - так или иначе из «Баопу-цзы» ясно, что имеются в виду не химические вещества как таковые (золото, серебро, сульфид ртути, оксид свинца), а средства для достижения бессмертия.
В связи с успешным обретением этих средств возникает тема даосских путешествий: по всем сторонам света, по небесам, где возможны встречи с Ткачихой и Пастухом, с Хэн Э и другими, с Желтым Государем и Матерью-Госпожой Запада - Сиванму. В речи Кёму эти встречи понимаются не как случаи, позволяющие получить от «бессмертных» какие-то дары, а как свидетельства уже достигнутого совершенства. Таким образом, тема «выбора компании», заявленная в речи Кимо:, получает иное освещение: в круг «бессмертных» можно попасть, уже освоив учение, тогда как по ходу его освоения желательно как можно меньше иметь дело с кем бы то ни было, - за исключением, разумеется, учителя. На первом месте в даосском разделе «Само: сиики» - учение не как то, что образует сообщество ученых, а как то, что особым образом размечает мир, превращая его в набор средств, годных для решения любой задачи, даже самой смелой: для достижения бессмертия.
В «Драгоценном ключе к тайному хранилищу» (ср. выше) Ку:кай отводит даосскому учению наименее почетное место. Ему соответствует низший уровень сознательности [Трубникова 2000, 171-173, 215-219]. Как козлы или бараны, люди в этом состоянии бродят в поисках пищи и утоления похоти, не помышляя ни о чем ином. Они надеются на личное бессмертие - а значит, дорожат собой, своим «я», с отрицания которого начинается учение будды. Более того, даосы с их рассуждениями о «божествах» занимают место условного внутреннего противника буддийского учения, индийского многобожия, хотя даосские «божества» вовсе не похожи на Брахму и Индру. А поскольку даосы приписывают высшую ценность опытам с пищей или голоданием, дыхательным упражнениям, житью в безлюдных местах - постольку они занимаются чем-то похожим на индийскую йогу, от чрезмерного увлечения которой Будда Шакьямуни предостерегал своих учеников.
3. Буддийские источники
Из действующих лиц «Санго: сиики» монах Камэй-Коцудзи описан подробнее всех других. О наставнике Кимо: мы знаем только то, что он «величествен, грозен и умудрен», об отшельнике Кёму - что он растрепан и развязен. Что же до Камэй-Коцудзи, то в самом начале его описания [345] сказано: «Откуда родом, точно не известно» (ККн 2), а далее речь идет о его происхождении, о внешности и образе жизни. Говорится, что родился он в бедной семье (ККн 3-4), отдалился от мирской «грязи» и стал «усердно трудиться, взирая на Путь» (ККн 5-6). Как и положено монаху, у него обритая голова, загорелая кожа, невзрачная одежда. А кроме того - некрасивое лицо и нескладное сложение. Здесь вспоминаются слова о «благообразном проповеднике» в более поздней японской изящной прозе, в частности, у Сэй-сё:нагон (ср. [Классическая японская проза, 54]). Там внешняя привлекательность окажется едва ли не главным условием успешной проповеди - по крайней мере, в глазах тех знатных мирян, которые посещают храмы от скуки или из тщеславия. Во всяком случае, восприниматься монах будет скорее «на вид», чем «на слух», как и любой другой человек, - и если будет отмечен, то с той точки зрения, возможно ли им любоваться 24. Представляется, что у Ку:кай подробное и отнюдь не лестное описание монаха (тощие ноги, короткая шея, кривые губы, «угловатые» глаза и т.д.) служит особой цели - подчеркнуть, что перед нами необычное, странное существо, напомнить, что к буддийским подвижникам пока еще не привыкли, что о них еще слишком мало знают. Такое диковатое впечатление Камэй-Коцудзи поначалу производит на собеседников, собравшихся в доме господина Токаку. Прекрасным нищий странник окажется позже - когда они услышат его голос и его стихи.
Следуя монашескому уставу, Камэй-Коцудзи носит при себе чашку для подаяния, четки, подстилку и веревочное сиденье, кувшин и посох; он обут в травяные сандалии, подпоясан грубой веревкой (ККн 7-25). Люди, встречая его, глумятся над ним. Здесь возможна еще одна отсылка - к рассказу о бодхисаттве Никогда Не Презирающем из «Лотосовой сутры» (отрывок этот традиция считает столь важным, что его называют «малой сутрой», кратко выражающей главный смысл всей «большой» сутры). Бодхисаттву осмеивают, презирают, а он говорит: «Я глубоко почитаю вас и не могу относиться [к вам] с презрением. Почему? [Потому что] вы все будете следовать пути бодхисаттвы и станете буддами!» [Лотосовая сутра, 265].
Ку:кай называет те горы, где странствовал Камэй-Коцудзи (это знаменитые горы Японии - и все же не те, о которых во «Введении» Ку:кай говорит как о месте своих странствий). У него есть и друзья: «самочинный монах» Аби, благочестивый мирянин Ко:мё:. Мы узнаем, что однажды Камэй-Коцудзи встретил девушку-унако (сборщицу ракушек) и на время отошел от монашеского пути, но потом встреча со старой монахиней вернула его к подвижничеству (ККн 28-33). Монах ест самую убогую пищу, подолгу постится, довольствуется самой грубой одеждой, ночует, где придется, - и при этом весел и полон решимости (ККн 34-48). [346]
В предысторию Камэй-Коцудзи включен спор молодого монаха со сторонником конфуцианского учения о «верности и почтительности» (ККн 48-162), о котором я говорила выше. Здесь отмечу, что кроме собственно спора в этот отрывок входит стихотворение Камэй-Коцудзи и его «письмо», где в первый раз упомянуты такие величания будды как «великий Просветленный» (***, кит. дацзюэ, яп. дайкаку) и «почитаемый» (***, яп. сон, кит. цзунь). Далее описано, как монах покидает свое горное жилище и отправляется в город за подаянием (ККн 166-180).
В размышлениях Камэй-Коцудзи об услышанной им беседе конфуцианца и даоса вводится целая серия буддийских понятий и сравнений (ККн 189-198). «Четыре рождения» здесь - это список, под который подводятся всевозможные разновидности живых существ смотря по тому, каким путем они пришли в нынешнее свое перерождение (из утробы, из яйца, из слизи или путем превращения). «Восемнадцать миров» - те части, на которые дробится будто бы целостный мир, доступный нашим чувствам. Если исходить из буддийского учения об «отсутствии "я"» (яп. муга), то никакой целостности нет, а есть шесть «миров» по числу чувств - пяти «внешних» и одного «внутреннего»; к ним добавляются еще шесть - по числу «предметов» чувств, ибо предметы эти лишь кажутся независимыми от восприятия, но на деле «зримое» не существует отдельно от «глаза» и т.д.; далее следуют еще шесть миров - по числу соответствующих сознаний: миры «зрительного» сознания, «слухового» сознания и др. В тот же ряд входит и понятие «пяти скандх» - речь идет о пяти совокупностях дхарм, тех «носителей», на которые распадаются и человеческое «я», и окружающий мир 25. «Четыре стихии» здесь упомянуты в том же качестве: как понятие из буддийского учения о дхармах.
В целом размышления монаха можно понять двояко. С одной стороны, доводы Кимо: и Кёму не имеют под собою почвы, поскольку и семья, и государство, и живая жизнь с точки зрения буддиста - это призраки, наваждения, разоблаченные учением о дхармах. Но с другой стороны, как будет ясно из дальнейшего, Камэй-Коцудзи - не сторонник одного только раннего буддийского учения. Дхармы, элементы мирового круговорота для [347] него так же призрачны, как и «я», как и мнимо существующий мир. Учение о дхармах для него - лишь введение, за которым непременно последует махаянское учение, где мир как наваждение тождествен миру изначально просветленному, миру будды. Следовательно, когда конфуцианец и даос «строят дворец-наваждение в пустой стране пяти скандх» (ККн 187), то это звучит так, словно бы эти двое вдобавок к своим собственным учениям признавали еще и учение о дхармах, да к тому же считали его окончательным. Тем самым Камэй-Коцудзи обращается к хорошо известному полемическому приему: приписать противнику то мнение, которого тот не высказывал, но с которым мне самому сподручнее спорить. Правда, вслух ничего подобного монах не высказывает. И в целом ход его раздумий следует порядку, принятому во многих китайских (а позже и японских) буддийских школах: сначала учение «малой колесницы», хинаяны, изложенное в «Абхидхармакоше» (и в том числе теория дхарм), а затем уже махаяна.
Примечательно, что в этом же отрывке впервые появляется обозначение здешнего, человеческого мира как «мира желаний» (по схеме «трех миров», см. ниже) и будды как «государя Закона».
Итак, Камэй-Коцудзи ввязывается в спор, точно вступает в битву, сокрушает доводы противников, а потом сам утешает их. Здесь же дается отсылка к той легенде, согласно которой Конфуций и Лао-цзы были бодхисаттвами: их настоящие имена Манавака и Кашьяпа, они были посланы буддой на Восток, но проповедовали там «превращенное» учение, приспосабливаясь к разумению своих тогдашних слушателей. Отвечая на расспросы Кёму, монах приводит еще несколько понятий, на сей раз - связанных с буддийским учением о перерождениях. Это, прежде всего, «три мира»: «мир желаний» (***, санскр. kamadhatu, кит. юйцзе, яп. ёккай), «мир плоти» (***, санскр. rupadhatu, кит. сэцзе, яп. сикикай) и «мир без плоти» санскр. arupadhatu, кит. усэцзе, яп. мусикикай). К этой же теме относятся и «шесть путей» - шесть вариантов перерождения по закону кармы, в том числе пути «подземных темниц» (***, санскр. naraka, кит. диюй, яп. дзигоку), «голодных духов» (***, санскр. pretaloka, кит. эгуй, яп. гаки), «скотов» (***, санскр. tiryagyoni, кит. чушэн, яп. тикусё:), «асуров» (***, санскр. asuraloka, кит. сюло, яп. сюра), а также небожители (тж. «боги», ***, санскр. devaloka, кит. тянь, яп. тэн), люди (***, санскр. manusyaloka, кит. жэнь, яп. нин). Камэй-Коцудзи говорит о непрерывном круговращении рождений и смертей - этот круговорот делает по сути бессмысленным разделение людей на старших и младших, на родителей и детей. Кроме того, заботиться о продлении жизни вдвойне бессмысленно, ибо сроки нынешней жизни заданы законом кармы, а продлевать ее - значит продлевать страдания.
Завершается это рассуждение монаха отрывком, где Камэй-Коцудзи все-таки называет свою родину, она же родина Ку:кай (ср. выше, гл. 2). Далее даос Кёму спрашивает о смысле нескольких понятий, которые [348] упомянул нищий странник. В «Санго: сиики» буддийское учение выделено именно таким образом: ведь конфуцианец и даос ни разу не уточняют, в каком смысле они используют тот или иной термин. А монах и сам несколько ранее спрашивал у неизвестного собеседника, что тот имеет в виду под «верностью и почтительностью», а теперь готов разъяснить смысл тех понятий, которые вошли в его рассуждение.
Если для конфуцианского учения на первом месте люди-роли, люди-функции, образцы для подражания, и те, кто может составить достойное окружение, а для даоса главное - средства, могущие так или иначе повлиять на удлинение или укорачивание жизни, то для буддиста прежде всего важны миры, обитаемые среды, мыслимые не как действительно существующие области, а как некие состояния сознания. Упоминаемые классы существ - тоже не столько окружение, сколько обозначения одного из местообитаний, куда можно попасть по закону кармического перерождения. Выбор компании, выбор средств, выбор среды, заданной во мне самом, - все это различные варианты одного и того же. Но для нас важно не столько их конечное сходство, сколько различия.
Отвечая на вопросы даоса, Камэй-Коцудзи говорит и о своем учителе, Будде Шакьямуни, обозначает сроки его проповеди и круг ее слушателей (ККн 286-287). Монах рассказывает о том, как проповедь Будды не была принята и наступил век «конца закона». Тогда Просветленный призвал бодхисаттв Майтрейю и Манджушри и передал Майтрейе свои регалии государя Закона, а Манджушри и Кашьяпу послал по всем странам с радостной вестью о будущем обновлении учения. Восприняв эту весть, монах пустился в путь - и теперь просит помощи на дорогу.
Будда здесь понимается в контексте «Лотосовой сутры»: одновременно и как «исторический», и как вневременной. Главные понятия, описывающие отношение Будды к земному миру, - это «жалость» и «сострадание» (***, яп. дзихи, кит. цыбэй). По «Лотосовой сутре», «жалость» (***, яп. дзии, кит. цы) - это забота о том, чтобы живые существа обрели радость, а «сострадание» (***, яп. хи, кит. бэй) - забота об избавлении их от горестей [Лотосовая сутра, 484].
И все-таки какого буддийского учения придерживается Камэй-Коцудзи? Он не принадлежит к какой-либо определенной школе, но многое указывает на его знакомство с несколькими сутрами. Прежде всего это две из тех трех сутр, которые в Японии пользовались наибольшим почетом как «защищающие страну»: «Лотосовая сутра» («Хоккэ-кё:») и «Сутра золотого света» («Конко:мё:-кё:»). К «Сутре золотого света» восходят имена Кимо:, Токаку и Сицуга (ср. выше, гл. 3), а также предание о Саттве, отдавшем себя на съедение тигрице (ККн 136 и далее). К этой же сутре делаются отсылки в связи с учением о призрачности, иллюзорности человеческого тела и мира, порождаемого человеческими чувствами и сознанием. Нет ни «я», ни независимых от «я» внешних вещей, а есть только поток мгновенно [349] сменяющих друг друга признаков (дхарм). Каждый из них образован связкой одной из чувственных способностей и соответствующего ей «предмета». Ни чувственные способности, ни их предметы не существуют сами по себе, но только в виде единичного «носителя» (дхармы) того или иного признака.
Однако в «Сутре золотого света» учение о потоке дхарм уже не мыслится как окончательное. С точки зрения учения о дхармах наше «я» пусто, как пуст и мир, якобы внешний для нас: и то, и другое есть только видимость, за которой скрывается поток дхарм. Но в этой же сутре сказано, что за потоком дхарм, в свою очередь, стоит нечто, в сравнении с чем дхармы также пусты. Здесь намечается переход к учению о «трех телах» будды. Сутра различает «превращенное» тело (***, кит. хуашэнь, яп. касин), вовлеченное в жизнь изменчивого мира, тело Будды Шакьямуни, - и «тело Закона» (оно же «тело Дхармы», ***, кит. фашэнь, яп. хоссин): это тело не подвержено изменениям по закону причин и следствий, едино, совпадает и с просветлением, и с нирваной. О нем, по сути, ничего нельзя сказать, так как оно превышает возможности человеческой речи и мысли. Промежуточное положение между «телом Закона» и «превращенным телом» занимает «тело соответствия» (***, кит. иншэнь, яп. о:син) - это тело будды как могущественного и сострадательного помощника всем существам на их пути к просветлению. Согласно «Сутре золотого света», тела «превращения» и «соответствия» суть лишь «временные имена» будды (ср. выше, гл. 3), тогда как истинно только «тело Закона»: в мире нет ничего, что не было бы «телом Закона». Эта мысль находит продолжение в учении о «природе будды» (***, кит. фосин, яп. буссё:): просветленная природа изначально присутствует в каждом отдельном живом существе и может быть выявлена изнутри, а не обретена извне.
На положениях «Лотосовой сутры» строится учение о совпадении заблуждения и просветления, о том, что возможность стать буддой открыта каждому живому существу. Из этой сутры берутся учение о «единой» колеснице, более совершенной, нежели «малая» и «большая» колесницы, хинаяна и махаяна, и обобщающей их в себе (ККн 27). К «Лотосовой сутре» в «Санго: сиики» восходит и само описание буддийского Закона-Дхармы: Закон «труден» (Кино: 78, ПМ 110), но не следовать ему - пагубно (ПМ 48), и даже самые малые шаги на пути к будде приносят большое благо (Кино: 139; ККн 172). Сам будда в «Санго: сиики», как и в «Лотосовой сутре», величается «великим мудрецом» (В 23) и «государем Закона» (ККн 237, ПМ 143). Из этой же сутры заимствуются образ редкостного «цветка удумбара» (Кимо: 73, ККо 5) и выражение «вращать колесо Закона» (ПМ 131) в его махаянском понимании: речь идет о проповеди не для узкого круга учеников, а для всего мира и всех времен. Отсюда же взято и сравнение проповеди с благодатным дождем (ККн 289, ПМ 131). Даются отсылки к знаменитым притчам «Лотосовой сутры»: о блудном сыне (ККн 181) и о горящем доме (ПМ 111). Цитируются рассказы о том, как Шарипутра получил предсказание о [350] своем будущем просветлении (ПМ 87), как бодхисаттвы прежних эпох «выпрыгнули из-под земли» перед буддой (ПМ 116), как девочка-дракон узнала, что и она сможет стать буддой (ПМ 89), как было поднесено ожерелье (ПМ 90) и разделено украшение (ПМ 88) и др. К «Лотосовой сутре» восходят выражения просьбы, сомнения, разные отклики слушателей на услышанное (Кимо: 60; ККн 223, 224; ККп 11-13) - из небуддийских источников в той же роли выступают ремарки из «Бесед и суждений».
«Сутра о человеколюбивом государе» напрямую цитируется всего трижды, в том числе в связи с образом мирового пожара (ПН 2-3). Большая роль принадлежит выдержкам из «Сутры о нирване». Здесь также встречаются сравнения: любовной страсти со змеиным ядом (Кимо: 131), сознания с беспокойной обезьяной (Кимо: 132), мира, порожденного человеческим сознанием, с призрачным дворцом (ККн 187), сторонников разных учений со слепцами, ощупывавшими слона (ККн 241), учения будды - с львиным рыком (ККн 242) и с драгоценным жертвенным маслом (ККн 294). По «Сутре о нирване» толкуются понятия «четырех рождений» (ККн 184), «четырех разрушений» (ПМ 32), «четырех плодов» подвижничества (ККп 39), четвероякого обета бодхисаттв (ПМ 105), шести парамит (ПМ 79) и «четырех доблестей» (подробнее см. в «Предметном указателе»).
Учение о теле как непрочном, подобном молнии, наваждению, в основном воспроизводится по «Сутре о Вималакирти» (В 30 и 33; ПН 10-12, 17, 19) и по «Алмазной сутре праджня-парамиты» (Кёму 183, 185). Множество сутр цитируются всего по одному разу, в том числе некоторые - не напрямую, а по собранию «Сады закона». Из второй «корзины» буддийского канона, содержащей монашеские уставы, берутся «Пятичастный» и «Четырехчастный» уставы.
Что касается третьей «корзины», толкований к буддийским сутрам, то здесь первое место занимает «Трактат о великой мудрости-переправе» (кит. «Дачжиду-лунь», яп. «Дайтидо-рон»). Отсылки к нему касаются различения двух воззрений на «я»: «я есть» и «я ложно» (ККн 193), картины мирового пожара (ПН 3), сравнения дхарм с отражением луны в воде (ПН 11) и с жаркой дымкой (ПН 12), сравнение буддийского учения с кораблем (ПМ 17). К «Трактату о мудрости-переправе» восходят и расшифровки таких понятий, как «двенадцать причин» (ПН 13), «три яда» (ПН 15), «сто восемь заблуждений» (ПН 16), «четыре мысли» (ПМ 86); к нему же отсылают темы смерти, разложения тела и мучений в «подземных темницах» (ПН 50 и далее).
Из других махаянских трактатов следует назвать «Трактат о пробуждении веры в великой колеснице» (яп. «Дайдзё: кисин-рон») и «Толкование к трактату о махаяне» (яп. «Сяку махаэн-рон»). Нельзя не сказать и еще об одной разновидности буддийских источников: о «Собрании сочинений, светоч истины распространяющих» («Хун мин цзи» 14 цзюаней, составлено Сэн Ю ок. 515-518 гг.) и о его продолжении, «Расширенном [351] собрание сочинений, светоч истины распространяющих» («Гуан хун мин цзи», 30 цзюаней, составлено Даосюанем в 660-х гг.). Это своды различных по жанрам сочинений, созданных в Китае, - от трактатов и государственных документов до личных посланий и стихотворений [Кравцова 1994а, 321-372]. Большинство текстов, вошедших в эти собрания, составлено для мирян или самими же мирянами, в том числе не только сторонниками буддизма, но иногда и его противниками. В «Санго: сиики» по «Расширенному собранию» цитируется несколько трактатов «светской» буддийской направленности: это «Трактат о достижении предела» Янь Цуна, «Трактат о внутренней доблести» Ли Шичжэна, «Трактат о различении справедливого» Фалиня, «Трактат о двух учениях» Ши Даоаня. В этих текстах, в частности, намечаются и различные пути сравнения трех учений. Трактаты «У причин и следствий нет природы» Ши Чжэньгуаня и «О неуничтожимости души» Чжэндао-цзы рассматривают отдельные понятия буддийского учения, освещая их в терминах, близких китайской традиции. Цитируются и песни буддийского содержания: «Песнь, излагающая три учения» лянского У-ди, «Песнь о восхождении на гору Тяньтай» Сунь Чо и др.
Мой дальнейший разбор буддийского раздела «Санго: сиики» будет касаться в основном двух больших песней-фу монаха Камэй-Коцудзи. Это «Песнь о непостоянстве» и «Песнь о море рождений и смертей».
«Песнь о непостоянстве»
«Непостоянство» (***, санскр. anitya, кит. учан, яп. мудзё:) - одно из ключевых понятий буддийского учения. Вместе с понятиями «не-самости» (***, санскр. anatma, кит. уво, яп. муга) и «страдания» (***, санскр. duhkha, кит. ку, яп. ку) «непостоянство» образует «три признака» (***, санскр. trilaksana, кит. саньсян, яп. сансо:) мира, каким его видит буддийское учение. «Непостоянство» земного существования - это смерть близких, болезни, старость, разъединение с тем, что дорого, соединение с тем, что ненавистно; зыбкость любой радости и неутолимость даже самых скромных желаний, наконец, неотвратимость собственной смерти. С другой стороны, круговорот изменений, безначальный и бесконечный сам по себе, тоже не обладает «постоянством», коль скоро из него можно вырваться. В махаянском буддийском учении сансара, мир страдания, и нирвана, мир освобождения, осознаются как одно: самой своей быстротечностью мир непостоянства указывает на что-то, что есть за его пределами. «Тайное» же буддийское учение ищет природу будды внутри непостоянного мира именно постольку, поскольку он непостоянен.
Для японцев много сот лет сама азбука имела вид песни под названием «ИРОХА». Каждая из букв слогового алфавита вошла в эту песню [352] по одному и только одному разу. По традиции автором песни считался Ку:кай 26.
|
*** Иpo ва ниоэдо |
Красота блистает миг - |
Слово «цунэ» в четвертой строке - чтение того же иероглифа *** (яп. дзё:/цунэ) который входит в сочетание «мудзё:». Образцом для стихотворения стала песня-гатха из «Сутры о нирване»: это отрывок одной из последних речей, обращенных Буддой Шакьямуни к ученикам, скорбящим о близкой кончине учителя. В китайском переводе сутры этот отрывок выглядит так:
*** Все движется, ничто не постоянно.
*** Таков закон рождения и гибели.
*** Погубить и рождение, и гибель - (или: погибнуть и для рождения, и для гибели)
*** - [Значит найти] покой от деяний и уничтожить [пустые] радости
[Канаока, 9-11].
Казалось бы, учению о непостоянстве, как и теории дхарм, махаянская мысль отводит роль предварительного, вводного рассуждения. Лишь только оно будет усвоено, как сразу же окажется, что непостоянного - нет, что на самом деле между непостоянным и постоянным нет различия. «Исторический» Будда «Сутры о нирване» говорил ученикам о преодолении рождения и смерти. Будда Лотосовой сутры возвестил о себе, что он был и будет всегда, во всем, что его «жалость и сострадание» постоянно действуют ради прозрения каждого из живых существ. Как же совместить две задачи: представить буддийскую проповедь как учение о непостоянстве и как путь к преодолению власти непостоянства? [353]
В первый раз тема непостоянства звучит еще в речи Кёму (Кёму 176-197) как завершение той картины даосского путешествия, которую он представил своим слушателям: из обителей бессмертных он возвращается назад, к жизни, еще не получившей «питания», не очищенной «недеянием», суетной и горестной». Той же теме, но понятой по-буддийски, отведена и первая из двух «песней» Камэй-Коцудзи.
В ней использована традиционная пятичастная композиционная схема (см. [Трубникова 2000, 161 слл.]). Вначале дается общее введение, основанное на хорошо известных «примерах», затем предмет обсуждается в понятиях «внешних» учений (здесь в этом качестве выступает раннее буддийское учение). Далее рассуждение ведется с точки зрения «внутреннего» (собственно махаянского) учения, потом подводятся итоги и даются ответы на возможные вопросы и возражения. И наконец, в заключение намечается путь к осуществлению на деле того учения, которое было разобрано. Но у Камэй-Коцудзи в «Песни о непостоянстве» внутри этой схемы развернута еще и другая: она восходит к «четырем мыслям», то есть к четырем уровням сосредоточения, различаемым в буддийском учении о медитации.
В итоге «Песнь...» строится по такому плану:
1. Введение общее: даже самое великое обречено погибнуть (ПН 1-7);
2. Введение специальное: человеческая природа с точки зрения буддийского учения о непостоянстве (ПН 8-20);
3. Основная часть: размышление над четырьмя образами непостоянства:
A) Смертное тело нечисто (ПН 21-44);
Б) Желания ведут к страданию (ПН 45-63);
B) Сознание непостоянно (ПН 64-77);
Г) Ничто не минует круговорота перерождений (ПН 78-87);
4. Картины посмертного воздаяния (ПН 88-111);
5. Заключение: лишь упорные усилия могут помочь преодолеть непостоянство (ПН 112-114).
В непостоянном мире нет ничего нерушимого, учат приверженцы будды. Ку:кай рисует картину разрушения самого великого, что только можно представить. Главный мотив этой вводной части «Песни» - мировой пожар - взят из «Трактата о мудрости-переправе» (см. выше) и из «Абхидхармакоши» Васубандху, энциклопедического свода ранней буддийской догматики, а именно из того раздела этого труда, что носит название «Учения о мире» («Лока-нирдеша»). Там последовательно разобраны стадии распада миров: постепенный упадок нравов, сокращение продолжительности жизни людей, бедствия, вызванные «оружием», «болезнями» и «голодом». После этого наступает разрушение «миров-вместилищ»: сперва [354] огнем (от жара семи солнц), затем водой (от дождей), снова огнем, и наконец, ветром. В то же время вселенский пожар, вызванный появлением на небе нескольких солнц (по «Трактату о мудрости-переправе») соотносится с китайскими преданиями о десяти солнцах, едва не сжегших весь мир, а разрушение водой - с легендами о потопе.
Камэй-Коцудзи сводит вместе две разные космографические схемы: буддийскую и традиционную китайскую. С одной стороны, мир - это великое море, посреди которого высится гора Меру. Вокруг горы лежат четыре материка, внизу под ними - подземные узилища, и на самом дне - «Подземелье Без Просвета». Вверху расположены небеса, населенные богами. Вершина горы Меру находится уже не в нашем человеческом «мире желаний», а в более высоком «мире форм». Над ним есть еще «мир без форм», с небом «Вершина Существования» на самом верху: туда добираются только самые умудренные подвижники. С другой стороны, мир - это четырехугольная Земля под круглым Небом, Поднебесная, управляемая государем - Сыном Неба. Картина бедствий отчасти дополняется тем китайским учением, согласно которому природные катаклизмы мыслятся как следствия упущений правителя.
Слова для описания мировой горы и моря тоже взяты у китайских авторов, в основном из описаний даосских странствий. Боги, обитатели наднебесных миров в буддийской космографии, соотносятся с даосскими «божествами-бессмертными» - и те, и другие наслаждаются долгой, но все же не вечной жизнью, а значит, и их существование призрачно, не более долговечно, чем вспышка молнии.
Далее «Песнь» делает резкий переход: от вселенских масштабов к человеческим. Все вышеизложенное имеет значение лишь постольку, поскольку предмет, интересующий нас в этом мире, - живое страдающее существо. Известно: будда учил не тому, вечен ли мир или не вечен, бесконечен или нет. Он открывал своим слушателям то, что останется, если отбросить «я» и «мир». Он говорил о «дхармах», о «скандхах», о «двенадцати причинах», о всеобщем законе зависимого возникновения и уничтожения. По этому закону крушение мира невозможно предотвратить ни молениями, ни добрыми делами, ни подвигами героев вроде древнего Стрелка И, уничтожившего смертоносные солнца, или Юя, усмирителя потопа. Коль скоро уровни мироздания мыслятся как уровни человеческого сознания 27, то справедливым оказывается утверждение: мир гибнет всякий раз вместе с гибелью отдельного смертного существа.
В описании человеческой природы несколько раз звучит противопоставление «сущности» (***, яп. тай, кит. ти) и «облика» (***, яп. со:, кит. [355] сян). «Сущность»» она же «тело»» отсылает к паре «тело - его применение»» «сущность - ее действие» (кит. ти-юн, яп. тай-ё:), известной в китайской мысли начиная еще с древности. В буддийских текстах в Китае понятия ти, сян и юн» «сущность», «облик» и «применение», соотносятся с тремя телами будды (здесь «тело» будды - другое слово, шэнь. Ти - не чувственное живое тело человека, а его основа, сущность). «Сущность» соответствует «телу Закона», «облик» - «телу соответствия», «применение» - «превращенному телу».
Важно, что разбирая понятие «тела» применительно к человеку, источник, цитируемый в «Песни...» («Летописи Сун»), указывает, что снабжено это «тело» пятью «постоянствами». Говоря о «непостоянстве» (кит. учан), нельзя забывать, что «постоянствами» (чан) называются пять главных достоинств человека по конфуцианскому учению (ср. выше). Облик-сян указывает на другую точку соприкосновения учений: на имеющееся уже в небуддийской мысли представление о видимости, неподлинности того, что принято считать человеком или средой его обитания.
Из понятий буддийского учения в «Песни...» названы ключевые: «пять скандх», «четыре великие природы», «двенадцать причин и следствий», «восемь бед», «три яда», «сто восемь зол». Это разные подходы к описанию мира непостоянства. В теории этот мир предстает как поток дхарм, как смена различных конфигураций стихий, как взаимное обусловливание двенадцати причин и следствий. А обыденному взгляду видно, что мир этот поражен разного рода заблуждениями, отравлен злобой, алчностью, глупостью, что в нем снова и снова чередуются рождение, болезнь, старость, смерть, разлука с любимыми, соединение с ненавистными.
Начинается основная часть «Песни»: четырехчастное размышление о непостоянстве. Первый его шаг - представление человеческого смертного тела как не просто невечного, но и нечистого, тленного уже при жизни. Еще один буддийский контекст для этого рассуждения - эпизод легенды о Шакьямуни, где тот, уходя из дома, в последний раз глядит на прекрасных спящих женщин из своего дворца: глядит и видит вместо красавиц отвратительные разложившиеся останки. Не случайно Камэй-Коцудзи ведет здесь речь о женском теле, женской красоте. Можно вспомнить и еще один источник - песню из «Тхери-гатх», известную в разных частях буддийского мира. Гетера Амбапали, в прошлом щедрая гостеприимица и собеседница Будды Шакьямуни и его учеников, вспоминает молодость и думает о себе нынешней, безобразной старухе:
Будто черные пчелы - такого цвета
Были волосы у меня когда-то.
В старости стали они на пеньку похожи, Как говорил Правдивый, так и случилось. [356]
Словно кистью мастера выписанные искусно
Красотой сияли брови когда-то.
В старости их удлинили морщины, Как говорил Правдивый, так и случилось.
Как драгоценные камни блистали, сверкая,
Раньше глаза мои, черные и большие.
Пораженные старостью, теперь потускнели, Как говорил Правдивый, так и случилось.
...
Все это тело, что было когда-то прекрасным,
Стало теперь вместилищем многих болезней,
Неприглядным, как дом с обвалившейся штукатуркой, Как говорил Правдивый, так и случилось.
(пер. Ю. М. Алихановой, [ЛДВ 110-112].
Слова для описания красавицы Камэй-Коцудзи берет у китайских поэтов: брови-бабочки, зубы-ракушки, глаза, способные покорить крепость, щеки и губы, как киноварь, дающая бессмертие. Видимо, сказывается здесь и то, что «красавица» в толкованиях к древней китайской лирике часто оказывалась «прекрасным человеком» вообще [Кравцова 1983, 157]. Ни одна из черт этого облика не вечна, все обречены на распад и гибель.
Второй виток размышления - мысль о том, что желания и привязанности ведут к страданию. Здесь Камэй-Коцудзи обращается к другому мотиву древней поэзии Китая: встречам с девами-божествами (у Сун Юя и других). Люди вокруг смертного человека столь же призрачны, как эти видения. Даже такие радости, как шум ветра или свет луны, невозвратимы, а потому в них больше горя, чем счастья. Даже если полностью соблюдать предписанные «правила» в одежде, убранстве жилища, в общении с родней и друзьями, - все равно эти связи, затягивая человека, не дают ему опоры.
Что до сознания - предмета размышлений на третьем этапе - то в его непостоянстве нетрудно убедиться, стоит лишь вообразить, как псы или черви поедают останки некогда любимого человека; как обращается в прах или нечистоты красота, которую при жизни сравнивали с птицей Фэн или змеем Лун - двумя хранителями небесных областей, столь же вечными, как времена года.
Четвертая ступень размышлений - ничто не минует вихря непостоянства. Обреченность всего живущего на погибель известна была и поэтам, и мудрецам древности. Хотя даосы и готовят снадобья, будто бы избавляющие от старости и смерти, все равно - странствия к подземным Желтым Родникам никому не избежать.
Далее речь идет о посмертном воздаянии. Хотя перед нами «песнь», а не трактат с развернутой аргументацией, все же невозможно уйти от [357] вопроса: кто страдает в «подземных темницах» (***, санскр. naraka, кит. диюй, яп. дзигоку)? «Я», «душа», которой нет? У Камэй-Коцудзи это «божество-сознание» (***, кит. шэныии, яп. синсики). Картины мучений в общих чертах воспроизводят сказанное в «Абхидхармакоше» [Абхидхармакоша, 159-161]. Среди цитируемых китайских сочинений примечательны два: жизнеописание Мэнчан-цзюня в «Исторических записках» Сыма Цяня и его же «Ответ Жэнь Шао-цину». В обоих текстах речь идет о заточении, неправом суде и расправе: посмертные муки при всей их чудовищности мыслятся по образцу земных (ср. [Ермаков, 268 слл.]).
В заключение снова говорится о неотвратимой власти непостоянства. Нужно много усилий, чтобы освободиться от нее, а каковы эти усилия - ответ на такой вопрос лежит уже за пределами «Песни».
Далее дается описание того, как глубоко «Песнь о непостоянстве» поразила слушавших. Очнувшись и успокоившись, все четверо просят рассказать им о буддийском учении. Предваряя следующую свою песнь, Камэй-Коцудзи называет ее основные положения: это «истоки страданий рождения и смерти» (***, яп. сэйси-но кугэн - ККп 35) и «плоды радости в нирване» (***, яп. нэхан-но ракка - ККп 36), они же «плоды великого бодхи» (***, яп. дайбодай-но ка). О таком не учили ни Чжоу-гун, ни Кун-цзы (ККп 37у ср. выше, гл. 1), ни Лао-цзы, ни Чжуан Чжоу. Примечательно, что в качестве «плодов» буддийского учения названы как хинаянская версия четырех этапов достижения состояния архата (ККп 39), рассчитанных на постепенное совершенствование в нескольких перерождениях, так и махаянские «десять ступеней бодхисаттвы» (ККп 41), которые можно пройти в нынешнем рождении.
«Песнь о море рождений и смертей»
У этой «песни» есть один очевидный образец: «Песнь о море» («Хай-фу») Му Хуа (III в. н. э.). В. М. Алексеев разобрал это сочинение как пример «литературной глоссалалии»: текста, в значительной части построенного из слов, которые «словами не являются», - это специально сконструированные иероглифы, так или иначе отсылающие к теме «воды», но не имеющие ясного смысла, не связанные даже со сколько-нибудь отчетливым зрительным либо слуховым образом [Алексеев 1978, 545-550]. Камэй-Коцудзи упоминает Му Хуа (под другим его именем - Сюань Сюй) в «Песни о море...» (ПМ 67) - как пример мастера красноречия, чья кисть, однако, не способна обрисовать мир как море во всей его огромности.
В песни Му Хуа речь вначале идет о том, как в древности Юй усмирил потоп и направил воды в русла рек, а реки - к морю. Далее следует описание моря: то бурного, то спокойного. Затем поэт величает [358] мореплавателей и восхваляет те чудесные края с диковинными обитателями, куда можно попасть, переплыв море. Говорится об опасностях морского пути, о чудесах, подстерегающих на море, есть рассуждения о морских рыбах и птицах. В заключение о море сказано как о пути в страну бессмертных. Сама стихия воды, мощная, но «считающая себя ниже, ниже всех» мыслится как образ Дао, величайшей полноты и тайны (по «Дао-дэ-цзин», 25).
«Песнь» Му Хуа воспроизводит общее построение текстов, связанных с темой «странствия к бессмертным»: с переходом от обычного мира сначала в странные и страшные края, а потом туда, где обитают бессмертные. Природа представляется здесь не как прирученная, подведомственная государю и зависимая от его доблести-дэ, а как дикая, скрывающая в себе источник бессмертия. Камэй-Коцудзи, следуя подобной схеме, вносит в нее буддийское содержание (нечто подобное сделано и у Сунь Чо в «Песни о восхождении на гору Тяньтай»). Природа - наваждение, область непостоянства. Вместе с тем, любые описания «внешних», видимых вещей так или иначе соотносятся с описаниями тех или иных состояний сознания или хотя бы подразумевают их. Если рассматривать «Песнь о море рождений и смертей» с этой точки зрения, то можно сказать: это еще один способ средствами «изящного слова» показать мирянам, что происходит с буддистом, когда он в сосредоточении путешествует по «мирам», они же уровни сознания. Рассуждение о тех или иных областях в пределах «трех миров» (чувственного, образного и лишенного образов) предполагает и разговор о существах, населяющих эти области, поскольку каждому из вариантов перерождения, заданному законом взаимозависимого возникновения («двенадцать причин и следствий») соответствует особое местообитание, та среда, где осуществляются именно такие, а не другие, последствия, нажитые этим существом в прошлом его рождении. Свойства «существа» задаются свойствами его «мира» и наоборот.
«Песнь...» Камэй-Коцудзи, как и песнь Му Хуа, начинается с описания моря: среды враждебной, страшной, поглощающей всё, что в нее попадет (ПМ 1-12). Вместе с тем, согласно махаянскому положению о тождестве миров заблуждения и просветления, эта среда мыслится как та, где происходит становление просветленного сознания. Необходимо помнить, что с «морем» в буддийском учении махаяны связано несколько очень важных образов. Учение сравнивается с кораблем, могущим перевезти «на тот берег»; как море имеет повсюду один и тот соленый вкус, так мир повсюду имеет вкус просветления.
Море населяют рыбы: не просто живые существа, а чудовища. Камэй-Коцудзи, описывая их, делает отсылки к 1-ой главе «Чжуан-цзы», где появляется громадная «рыба Кит». Заметим здесь, что подход к растительным и животным образам в речах трех персонажей «Санго: сиики» разный. Если у конфуцианца Кимо: растения выступают в основном как некие отвлеченные образы (ср. выше о «полыни» и «конопле»), а у даоса [359] Кёму - как чудесные средства для обретения бессмертия, то у Камэй-Коцудзи растения - часть его обыденной жизни: он питается «горькими травами», одежда и подстилка у него тоже из травы. С животными же все обстоит по-другому. В речи Кимо: упоминаются соколы, собаки, звери, на которых охотятся, рыбы, которых ловят. Есть, правда, и сравнения с тиграми и волками, со страшными хищными рыбами макара - но опять-таки в контексте охоты как занятия юноши Сицуга. У даоса животные - это либо те, из кого получают животную пищу, вредную для долголетия, либо чудесные существа, с кем можно встретиться, странствуя к бессмертным (таковы пес хуайнаньского государя, улетевший на небо, или птица-Феникс, о которой говорил Чжуан-цзы). А для буддийского монаха животные - это отвлеченные образы тех пороков, которые, по закону причин и последствий, создают условия для нового перерождения. О рыбах говорится как об «алчных», «яростных», «глупых» - то есть пораженных тремя главными «ядами»; как о «весьма сластолюбивых» (***, кит. даюй, яп. тайёку) - то есть погруженных в «мир чувственности» (санскр. kamadhatu, кит. юйцзе, яп. ёккай - ПМ 13). При этом морские волны угрожают «кораблю, который стремится прочь из мира желаний» (ПМ 17-18), а сами рыбы «не видят будущего возмездия» (ПМ 20), не помнят о страданиях в бесконечном круговороте перерождений (ПМ 23), хотят лишь счастья и богатства (ср. выше - таковы, по учению Конфуция, и цели всех людей). Можно вспомнить еще одну возможную отсылку к «Чжуан-цзы» (гл. 17, «С осенними разливами»), связанную с темой «рыб» [Мудрецы Китая, 235]:
«Прогуливаясь с Творящим Благо по мосту через Хао, Чжуан-цзы сказал:
- Пескари привольно резвятся, в этом их радость!
- Ты же не рыба, - возразил Творящий Благо. - Откуда [тебе] знать, в чем ее радость?
- Ты же не я, - возразил Чжуан-цзы. - Откуда [тебе] знать, что я знаю, а чего не знаю?»
В мире «рождений и смертей» все люди, которых встречает человек, даже самые близкие ему - такие вот рыбы, и вероятность хотя бы когда- нибудь понять их тем меньше, что каждая из «рыб» живет в своем «море», каждое смертное существо - в своем мире, в мире своих собственных заблуждений.
Птицы тоже упоминаются как образы пороков, на сей раз - связанных с речью: легкомысленной или злобной (ПМ 26-27). Большая часть этих словесных пороков входит в список «десяти зол», упоминаемых ниже (ПМ 32): ложь, пустая болтовня и др. Снова дается отсылка к Чжуан-цзы: к притче о сове и Фениксе (ПМ 34). О будущем воздаянии эти «птицы» тоже не помнят. Но на них уже расставлены сети и силки, меткие стрелки уже готовы стрелять в них (ПМ 38-41). Камэй-Коцудзи снова перечисляет пороки, уже общие всем обитателям мира-«моря» (ПМ 43-50); здесь [360] «птицы» и «рыбы» предстают как часть той среды, куда попадает обитатель «мира желаний», как источник опасностей и страданий (ПМ 60-63).
Выше шла речь о «мире желаний». Теперь границы мира как «моря» очерчиваются шире: от самой страшной из «подземных темниц», Авичи («Без Просвета»), до высшего из небес в «мире без образов» (Небо Вершина Существования). Несколько слов здесь надо сказать о разнице между «тремя мирами»: слово «чувственность» (тж. «желания», ***, яп. ёку, кит. юй, санскр. ката) приложимо и к обитателям «подземных темниц», и к «голодным духам», и к «скотам», и к «людям», и к «демонам», и к части «небожителей». Следующие два мира доступны лишь божествам и подвижникам, погруженным в созерцание (ср. выше). «Чувственности» там уже нет, два мира различаются по тому, есть ли там «образы» (тж. «плоть», ***, яп. сики/ироу кит. сэ, санскр. rupa). Здесь важно то, что с отсутствием «чувственности» у божеств связаны их весьма долгие сроки жизни и их «блаженство» (и могущество). А «отсутствие плоти» мыслится, говоря упрощенно, как следующая степень той же независимости от окружающего мира, а значит, как следующая степень «блаженства». Но так или иначе, обитатели всех миров подвержены действию закона причин и последствий, и следовательно, входят в тот же мир «рождений и смертей».
Далее речь пойдет о том, что же в этом мире противостоит рождению и смерти. Снова появляется образ корабля в бурном море (ПМ 71-72) или повозки на опасной дороге (ПМ 73-74). Упоминаются «пять заповедей» (ПМ 71 - ср. выше) и «десять добрых дел» (противоположность «десяти зол»). Им мешают «буйство» и «злоба», представленные в виде страшных демонов. Но по тому же закону причин и последствий сердце, желающее преодолеть круговорот рождений и смертей, может достичь плода своих устремлений. Это достижение столь же закономерно, как смена дня и ночи (ПМ 75-76), хотя достичь того уровня, где природа мира совпадает с природой будды, так же трудно, как опуститься на дно бездонного моря (ПМ 77-78).
Образ плавания по морю разворачивается. Кораблем для такого плавания может послужить «плот шести ступеней» - то есть шести «переправ», парамиту известных из махаянского учения, шести действий, с помощью которых можно «переправиться на тот берег, стать буддой (ПМ 79). По-другому этот корабль можно назвать «лодкой восьми правил» (имеется в виду «благородный восьмеричный путь» - ПМ 80). Оснащение корабля и мореплавателя соотносится с некоторыми из элементов двух названных перечней: так, «продвижение к сути» (***, яп. сэйдзин, кит. цзинцзинь) входит и в «шесть переправ», и в «восемь правил», а «размышление», «терпение» и «мудрость» - в «шесть переправ» (ПМ 81-84). Кроме того, названы «семь прозрений» (ПМ 85) и «четыре мысли» (ПМ 86, ср. выше): благодаря им можно выбраться за пределы мира-«моря». Четыре отсылки к притчам из «Лотосовой сутры» (ПМ 87-90) подтверждают, что [361] достигнуть всего этого можно уже в нынешнем рождении. Представляется, что важно здесь не столько содержание соответствующих эпизодов сутры, сколько ее общая направленность: та мысль, что достигнуть просветления может каждый.
Хотя путь к просветлению и долог (ПМ 91-92), но все промежуточные ступени на этом пути не сравнимы (ни по трудности, ни по своему величию) с тем, что происходит «на том берегу», в конце пути. Это главное событие описано не только как избавление от «тягот», но и как «свидетельство», то есть выявление природы будды внутри самого себя. Будда здесь назван «Почитаемым», чья природа не определима словами, но может быть обозначена только как «истинная таковость» (***, яп. синнё, кит. чжэньжу, санскр. tathata - ПМ 93). Вместе с тем, будда - государь (со всеми теми отсылками, которые связаны с понятием «государя» во внешних учениях: конфуцианском и даосском). Обращение к нему предполагает «опору» (***, кит. тай, яп. тай) на «два колеса», два главных понятия, вокруг которых вращается буддийская проповедь: это просветление, бодхи, и успокоение, нирвана. Отметим, что ни то, ни другое понятие в «Песни» Камэй-Коцудзи прямо не названы (таково требование жанра фу как песни-загадки, ср. выше). Поскольку «таковость» во всех существах «едина» (каждое из них - будда), постольку для «сердца» больше нет ни ближних, ни чужих; мудрость будды, подобная зеркалу, так отражает мир, что в нем нечего хвалить и нечего порицать. Рождение и смерть тем самым преодолеваются, достигается совершенство, покой, «необусловленность» - то же слово, что даосское «недеяние» (***, кит. увэй, яп. муи).
Величание будды и буддийского учения разворачивается по схеме, которую Ку:кай позже будет подробно разрабатывать в других своих сочинениях: «Трактате о десяти состояниях сердца», «Драгоценном ключе к тайному хранилищу» и др. Перечислены Желтый Государь, Яо и Фу Си (земные правители, соответствующие конфуцианскому и даосскому учениям - ПМ 101), небесные властители: государи «четырех кругов», а также боги Шакра (Индра) и Брахма (они соответствуют небуддийским учениям Индии - ПМ 102). За ними идут «слушатели голоса» и «созерцатели связи причин» (два направления «малой» буддийской колесницы, хинаяны - ПМ 104) и бодхисаттвы, носители «четырех обетов» (соответствуют махая- не, «великой» колеснице). Никто из них еще не достигает будды в полной мере: такое под силу только «тайному» учению (ваджраяне, «алмазной колеснице»).
О «тайном» учении прямо не сказано, в предыстории монаха Камэй-Коцудзи нет речи о том, что он принадлежал к «тайной» школе. Но то, что Ку:кай говорит во «Введении» о своем первом знакомстве с буддийской книгой, содержавшей «истинные слова» (дхарани, см. выше, гл. 2), указывает именно на «тайное» учение. И в «Песни о море...» Камэй-Коцудзи далее описывает не что иное, как обобщенный образ мандалы: множество [362] будд расселяются по множеству «местообитаний», не имея обличив, раскрываются в том, что не имеет очертаний (ПМ 108-109). О будде в «превращенном», земном теле, о Шакьямуни учили «раньше», «вначале» (ПМ 110): далее учение стало говорить о буддах в «телах соответствия» - прекрасных, как «золотые горы», «божественных» (ПМ 112), сияющих, способных своим «состраданием и жалостью» охватить весь огромный мир. Будд множество, Камэй-Коцудзи сравнивает их с облаками, с ветром, с дождем и родником. Примечательно, что к этим телам будды прилагается не только понятие «божественного» (***, кит. шэнь, яп. син/ками), но и образ «оседланного ветра» из даосских текстов (ПМ 115). Весь этот отрывок «Песни» соответствует словам о бессмертных у Му Хуа и других поэтов; они так же роятся, движутся между небом и землей. Свое место в этом движении занимают и другие существа: «восемь долей» (восемь разновидностей чудесных существ по буддийскому учению: боги, змеи-наги, птицы-гаруды, музыканты-гандхарвы, карлики-якши и др.); а также «четыре толпы» (люди: монахи, монахини, миряне, мирянки). Мир снова представляется как море, но уже не как море страдания, а как море ликования, как мандала. Эта мандала охватывает и небо, и землю (ПМ 127), в ней множество обитателей, но нет вражды (ПМ 128-129). Смысл этой мандалы в том, что она изображает будду, что она и есть этот будда в «теле Закона». Будда «тянет» мир к себе, как Юй «тянул» воды в море, он может поместить великую гору внутрь мельчайшего зернышка, потому что и гора - это он, и зернышко - тоже он. Он проливает свою проповедь, как дождь, раздает ее, как пищу, все радуются ему и ищут у него прибежища (ПМ 135-140). И конечно, с учением такого учителя не сравнятся ни даосское, ни конфуцианское учения (ПМ 148-150).
Слушатели высказывают восхищение учением, «выводящим из мира»: примечательно, что впервые это понятие (***, кит. чуши, яп. сюцусэ) появляется в их ответе, а не в «песнях» монаха. Они признают, что в сравнении с таким учением учения Чжоу-гуна и Кун-цзы, Лао-цзы и Чжуан-цзы «мелки». И конфуцианец, и даос, и дядя с племянником выражают готовность изучать буддийский закон. Изучение мыслится как «переписывание», причем бумагой становится кожа, кровью - тушь и т.д. В заключение Камэй-Коцудзи произносит песню-ши в десять рифм, подводя итог всему сказанному.
Выше я говорила, что эту песню Ку:кай около 826 г. переработал так, что в окончательном ее виде в ней звучит не принижение «внешних» учений по сравнению с буддийским, а скорее, мысль о различии задач «трех учений» при совпадении их конечной цели. Итак, все три учения, подобно светилам, разгоняют тьму, направляют «неразумное сердце» на правильный путь. Коль скоро человеческая природа различна, то и будда, «царь врачевания», применяет разные средства, чтобы ее «направить». Снова названы два понятия из учения Конфуция: «связи» в семье и [363] «постоянства», с помощью которых можно преуспеть на службе государству. «Обращение перемен», открытое Лао-цзы, ведет к постижению Пути-Дао (дает метод и средства для достижения чего-то, чего желаешь более всего). Наконец, «единая колесница» буддийского учения глубже всех понимает и «долг» и «выгоду», охватывает весь мир, учит человека не разделять мир на «свое» и «чужое».
Чем подытожить разговор о книге «Три учения указывают и направляют»? Не пытаясь делать выводов о значении этого сочинения Ко:бо:- дайси и его месте в истории буддийской мысли Японии, я повторю еще раз три главных вопроса, вокруг которых идет рассуждение в «Санго: сиики». Это вопросы: «кто?», «как?» и «где?» воспринимает от мудрецов их «направляющие указания». «Кто» - человек государства, стремящийся жить так, чтобы не навлечь на себя несчастья и позора. «Как» - избавляясь от всего вредного и ненужного, ища источник могущества в том чудесном, что есть в мире. «Где» - в мире, движимом закономерностями причин и последствий, не внешних по отношению к человеку, а заданных его же деяниями. Таковы три вопроса, поставленные тремя учениями. Автор, Ку:кай, делает свой выбор в пользу буддийского учения, но очерчивает и тот круг возможностей, из которого он выбирает. Возможности взаимосвязаны; считая один из вопросов первостепенно важным, невозможно уйти и от ответа на два других.
Комментарии
1. Здесь и далее при ссылках на работу [Канаока] курсивом даны номера страниц вступительной части книги, а прямым шрифтом - страницы ее основой части.
2. В 1930-ых гг., к 1100-летию со дня смерти Ко:бо:-дайси, в Японии вышло несколько фундаментальных научных изданий, посвященных его жизни и жизнеописаниям. Это работы Морияма Сэйсин (***) «Жизнеописания Ко:бо:-дайси с культурно-исторической точки зрения» (***, «Бунка-сидзё:-ёри митару Ко:бо:-дайси-дэн», 1934), Нагатани Ёсихидэ («Полное собрание жизнеописаний Ко:бо:-дайси» (***, «Ко:бо:-дайси-дэн дзэнсю:» в 10 томах, 1935-1936), Миура Акио (***) «Обзор источников к жизнеописанию Ко:бо:-дайси» (***, «Ко:бо:-дайси-дэн кисю:-ран», 1935). 1970-ые годы, когда отмечалось 1200-летие со дня рождения Ко:бо:-дайси, тоже дали целый ряд новых публикаций, как популярных, так и специально-научных. В них Ку:кай предстает человеком, чья жизнь оказала влияние на весь буддийский мир. Здесь надо прежде всего назвать словарь «Ку:кай» (***, «Ку:кай дзитэн») 1979 г., подготовленный Канаока Сю:ю: [Канаока], и исследование на английском языке Хакэда Ёсито (1972 г.), куда вошли также и переводы основных сочинений Ко:бо:-дайси [Хакэда].
3. Например в серии альбомов «Люди, создавшие Японию» (***, «Нихон-о цукутта хитобито») книга о нем вышла в 1978 г.
4. Существует легенда (приводится она в «Записях о передаче закона будды в трех странах», ***, «Сангоку буппо: дэнцу: энги»), будто Шань Увэй побывал в Японии около седьмого года Тэмпё:, то есть 736 г., и даже выстроил себе хижину возле храма То:дайдзи, где провел 80 дней. Всего же в Нара он пребывал более двух лет, воздвиг за это время несколько сооружений для хранения мощей Будды (яп. сотоба, кит. stupa), оставил семь свитков «Сутры о Великом Солнце», после чего отбыл в Тан.
5. Число 100*10.000 имело особую значимость. Так, при До:кё:, ради очищения от скверны после мятежа Фудзивара-но Накамаро было изготовлено ровно столько деревянных моделей храмов и в каждую помещен отпечатанный с доски текст заклинания-дхарани [Мещеряков 1988, 79-80].
6. Существует несколько прочтений этой формулы. В таблице второй строкой дан вариант из [Канаока, 17], а третьей - из [Санго: сиики, 326].
7. Согласно учению китайских астрономов, это Тай-бо (***, «Великая белая планета»). Она соотносится с белым цветом, с Западом, с осенью, со стихией металла, дает предзнаменования о военных делах, ведает наказаниями за неправедные казни [Сыма Цянь IV, 130-135]. Как и Юпитер, Сатурн, Марс и Меркурий, она прежде всего учитывается при составлении календарей. Явления, связанные с Венерой, упоминаются в самых первых сообщениях об астрономических наблюдениях в Японии. Так, в 640 г. было отмечено «затмение планеты луной», а в 702 и 772 г. Венеру наблюдали при дневном свете [Воробьев, Соколова, 20, 38]. Известно, что в связи с солнечными или лунными затмениями официально назначались обряды бодхисаттве Чрево Пустого Неба.
8. Общая длина пути, проходимого паломниками по горам острова начиная с земли Сануки (нынешняя префектура Кавати), далее в землях Ава, Тоса и Иё, и наконец, снова в Сануки, составляет около 1500 км. Как правило, паломничества совершаются в память о ком-то из умерших близких, на что указывает и белый (в дальневосточной традиции - траурный) цвет одежды паломников [Ридер, 115].
9. См. русский перевод основных частей трактата, выполненный А. Г. Фесюном [Фесюн, 74-86], Л. Б. Кареловой - [Буддийская философия, 263-270]; полный перевод - [Трубникова 2000, 56-93].
10. Перевод всех этих сочинений, сделанный А. Г. Фесюном, см. в изд. [Буддизм, 438-490; Фесюн, 160-231;]. Тж. см. перевод «Сокусин дзё:буцу-ги» [Трубникова 2000, 127-142], частичный перевод «Се: дзи дзиссоги» - [Трубникова 2001, 150-177].
11. См. [Фесюн, 98-159, Трубникова 2000, 211-276].
12. См. [Фесюн, 87-98, Трубникова 2000, 291-311].
13. Мой «Указатель источников» включает 420 самостоятельных текстов; впрочем, подсчет этот достаточно условен (см. ниже).
14. Текст Ван Чуня использует Фалинь в «Трактате о различении справедливого», о котором речь пойдет ниже.
15. Существует и другая формула, тоже звучащая как «три учения»: она возникла в догматике школы Хуаянь (***, яп. Кэгон) и служит для различения трех видов собственно буддийских учений: «внезапного», «постепенного» и «безусловного». Первое учит, что Будда - смертный человек, однажды достигший просветления и тем победивший смерть, второе говорит о вечном, вневременном будде и совпадает с учением о «пустоте», а третье, преодолевая различия первых двух, усматривает природу будды в каждом смертном существе [Петцольд, 167].
16. По-русски в косвенных падежах не всегда понятно, о каком жанре идет речь, «песня» это или «песнь». И всё же я предпочитаю переводить фу как «песнь», а не как «ода».
17. Речь идет о шести конфуцианских канонах - это «Книга песен», «Книга летописей», «Книга перемен», «Записки об обряде», «Весны и осени», а также «Книга музыки».
18. Двух разделов «Книги о Дао и Дэ».
19. Буддийского канона, состоящего из «сутр», «уставов» и «трактатов».
20. Названия песен даны по русскому переводу А. А. Штукина [Шицзин].
21. Вороны и выдры - не единственные существа, кроме людей, способные творить своего рода «обряды»: таковы еще ястребы, шакалы и др. [Люйши чуньцю, 126, 144].
22. По «Чжоу ли»: поклонение предкам, поминовение умершего, моление о победе для войска, прием высоких гостей и свадьба.
23. Отметим, что подобный взгляд на мир прослеживается во многих текстах, не относящихся напрямую к даосскому учению. Например, в «Каталоге гор и морей» почти все упоминаемые растения, животные и минералы описаны с точки зрения тех благих или дурных последствий, которые наступят, если «найти», «встретить», «увидеть» или еще каким-то образом заполучить себе их. Часто и те даосские снадобья, которым мы бы приписали чисто фармакологическое значение, «Баопу-цзы» предписывает не принимать внутрь, а просто носить при себе.
24. О значении «взгляда» и «зрительного кода» восприятия для японской традиции см. работу [Главева].
25. «С точки зрения раннего буддизма быть дхармой - значит иметь начало и конец, или быть чем-то непостоянным (anitya), лишенным самости (anatma), что-то претерпевающим (duhkha). Наконец, быть дхармой - значит быть в ряду других дхарм. В этом смысле дхармы - не бытие, а "событие", сочлененное бытие феноменов, череда не отдельных сущностей, но "событий", значимая тем, что одно событие сменяет другое, т. е. прежде всего фактором непостоянства. Для обычного человека за счастьем следует несчастье, за рождением - смерть, за смертью - новое рождение и так до бесконечности, для буддиста все это определяется только в терминах дхарм - за дхармой следует дхарма» [Лысенко, 209].
26. На деле «ИРОХА» возникла, вероятно, в конце X в., но была приписана Ко:бо:-дайси - не просто как многочтимому поэту, а и как буддийскому учителю. Ведь известно, что для основателя «Школы истинных слов» был важен не только смысл слов, записанный иероглифами, но и их живое звучание, а значит, нужны были буквы.
27. Единство «космологического» и «психологического» способов рассуждения в буддийском учении - особенность, ставшая одним их главных предметов внимания науки о буддизме: см., например, [Островская, 101-103].
Текст воспроизведен по изданию: Ку:кай (Ко:бо:-дайси). Три учения указывают и направляют: Санго:сиики. СПб. Савин С. А. 2005
© текст - Трубникова Н. Н. 2005© сетевая версия - Strori. 2021
© OCR - Иванов А. 2021
© дизайн - Войтехович А. 2001
© Савин С. А. 2005
