Надпись на ритуальном бронзовом сосуде Да Юй дин 大盂鼎 (раннее Западное Чжоу)
Надпись на найденном в 20-х годах XIX в. в китайской провинции Шаньси и находящемся ныне в Шанхайском Музее ритуальном сосуде Да Юй дин 大盂鼎 («Большой треножник Юя») давно является предметом изучения специалистов, занимающихся китайской древностью. Надежно датирующаяся гранью XI-X вв. до н.э., данная инскрипция представляет собой бесценный источник сведений о древнекитайской системе религиозных представлений и связанных с ними ритуалах, концепции царской власти, практике делегирования царями своим вассалам жреческих и административных полномочий, церемонии инвеституры. [33]
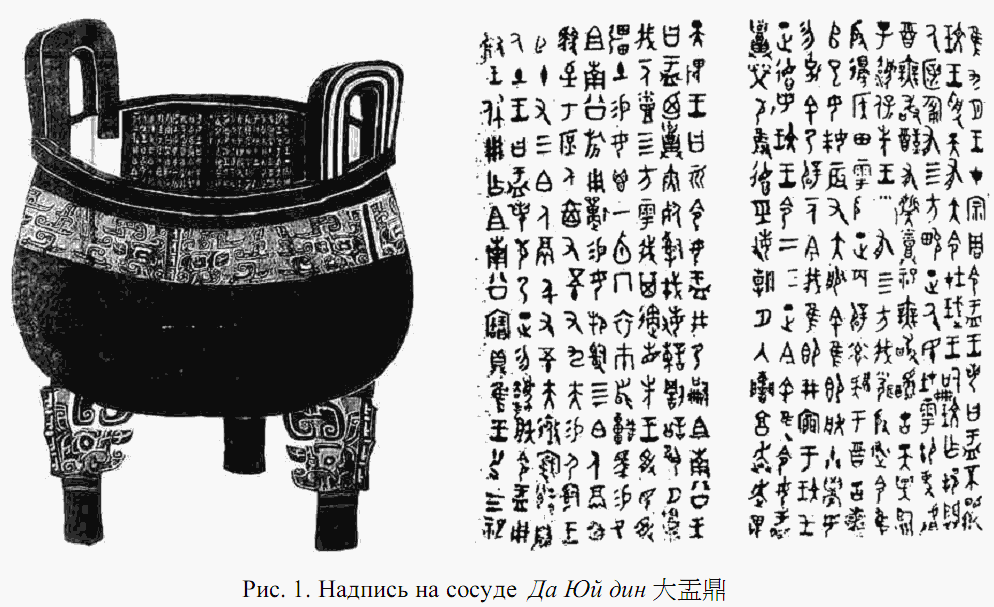
Текст надписи допускает несколько планов его возможного рассмотрения - как памятника ритуальной эпиграфики, как документального источника и, наконец, как нарратива.
1. Памятник ритуальной эпиграфики. Надпись, сделанная потомком на внутренних стенках ритуального сосуда, предназначенного для жертвоприношений его предку, вне зависимости от ее конкретного содержания, представляет собой не что иное, как средство ритуальной коммуникации между двумя членами архаического социума - здравствующим потомком и его покойным предком (Крюков, 2000, с. 23-25). Перед нами сугубо частное сообщение (письмо), «отправляемое» своему единственному предполагаемому «читателю» вместе с ароматами приносимой ему жертвы. Таков первый - вневербальный - уровень смысла данного памятника ритуальной эпиграфики.
Что касается собственно текста сообщения, то он обнаруживает общую для всех подобного рода инскрипций трехчастную структуру:
1) Стандартная вводная формула, сообщающая о факте получения персонально поименованным вассалом или сановником того или иного повеления безымянного царя с указанием времени и места данного события;
2) Текст царского повеления;
3) Стандартная финальная формула, сообщающая об изготовлении реципиентом повеления той или иной разновидности «драгоценного бронзового сосуда» для жертвоприношений своему персонально поименованному предку.
Природа и характер предмета сообщения (царский указ о возложении на его реципиента тех или иных обязанностей) вкупе с рамочной конструкцией обрамляющей его стандартной фразеологии позволяет уверенно квалифицировать содержание обсуждаемого памятника ритуальной эпиграфики как предельно формализованный отчет предку о знаменательном событии в жизни его потомка.
2. Документальный исторический источник. Текст надписи «Да Юй дин» представляет собой документальный отчет о проведенной Кан-ваном (1012-?) сразу же по его восшествии на престол церемонии инвеституры Юя - одного из могущественных вассалов чжоуских Чэн-вана (1035-1013 гг. до н.э.) и Кан-вана. Документ в стандартной форме сообщает о дате и месте получения Юем соответствующего царского повеления, приводит дословный текст последнего и завершается стандартной фразой об изготовлении им ритуального сосуда для жертвоприношений своему покойному деду. Текст документа не содержит ни одного слова, в авторстве которого можно было бы заподозрить самого хозяина сосуда.
Следует, по-видимому, сказать здесь хотя бы несколько слов собственно о церемонии инвеституры, представлявшей собой наделение вассала или сановника теми или иными полномочиями и проводившейся в царском дворцово-храмовом комплексе на восходе солнца. Согласно ее регламенту царь, обратившись лицом к югу, занимал положенное ему место в главном зале дворца или храма и призывал к себе виновника предстоящего торжества. Последний являлся в сопровождении специального сановника и занимал место посреди внутреннего двора, обратившись лицом к северу, после чего царь приказывал своему секретарю огласить записанное на бамбуковых планках царское повеление, что тот и делал. Отсюда и происходит впервые появляющееся в середине эпохи Западного Чжоу название данной церемонии це мин 冊命 «получение повеления на бамбуковых планках», хотя как таковая она сложилась еще в иньскую эпоху. Затем царское повеление на тех же самых бамбуковых планках передавалось его адресату, получавшему вместе с ним также и право на изготовление ритуального бронзового сосуда (с соответствующей надписью на нем) для жертвоприношений своему предку (Крюков, 1997, с. 122-136). В этих целях копия [34] полученного им повеления передавалась в царскую бронзолитейную мастерскую. Судя по всему, бронзолитейное производство в эпоху Западного Чжоу оставалось еще исключительной царской монополией (Крюков, 2000, с. 27). Вот почему царские повеления, содержащиеся в надписях на иньской и раннечжоуской ритуальной бронзе, обладают абсолютной точностью своей передачи. Записанные царским писцом под диктовку самого царя и наносимые на ритуальный сосуд в царской мастерской - оказаться иными они не могли просто «физически». Впрочем, в не меньшей степени документальный характер царских повелений, запечатленных на внутренних стенках ритуальных сосудов для частных жертвоприношений, гарантировался сакральной функцией самих содержащих их надписей, состоявшей в эпистолярной коммуникации живого потомка с его покойным предком. Ничего страшнее, чем ложное сообщение собственному предку (какого бы предмета оно ни касалось), мировоззрение того времени не знало: оскорбленный обманом предок раз и навсегда отказывал совершившему подобное преступление потомку в своей опеке и поддержке со всеми вытекающими отсюда сугубо негативными для него последствиями (Иванов, 2009, с. 157, 183-184). О вольном же изложении предку содержания высочайшего повеления (не говоря уже о его измышлении) и вовсе не могло быть и речи.
Итак, в документальном по своей форме отчете Юя содержится дословный текст царского повеления, документального уже по сути. Однако - по форме своей - сам этот текст обнаруживает ярко выраженные признаки нарратива.
3. Нарративный исторический источник («Повеление, отданное Юю»). Содержащееся в инскрипции «Да Юй дин» царское повеление представляет собой самостоятельное произведение, идеально подпадающее под определение нарратива как исторически и культурно обоснованной интерпретации некоторого аспекта мира с позиций некоторой человеческой личности. Все его смысловые векторы сходятся в сформулированной в его финале идее почтительного отношения к нижестоящим, видевшегося в обязательном доведении до их сведения всякого исходящего от государя «повеления». Отдадим царю должное: он первым демонстрирует проповедуемое им уважительное отношение к подчиненному. Причем не только тем, что делегирует этому подчиненному практически полный комплекс царских полномочий для их исполнения на подконтрольной тому территории, но и тем, что откровенно признается ему как в своей неопытности в деле управления страной, так и в имеющихся у него опасениях относительно возможных попыток оказывать на него давление. О том же почтительном отношении к нижестоящему свидетельствует и форма царского повеления в целом. Перед нами чистейшей воды риторика, едва ли совместимая с господствующим в сегодняшней науке представлением о сильной и уверенной в себе царской власти в эпоху раннего Западного Чжоу. Отдавая свои повеления, Кан-ван считает нужным обосновывать их какими-то примерами и аргументами, в чем-то убеждать своего вассала, к чему-то его призывать! Ни подобная попытка управлять страной посредством риторики, а не действий, ни очевидный поиск консенсуса элит вместо величественного повелевания ими никогда бы и в голову не пришли ни одному из его шанских предшественников, последний из которых был свергнут его собственным дедом всего лишь 32 года назад. Что же такое произошло за столь короткий промежуток времени, что так кардинально изменило сам способ управления страной? Да, по-видимому, ничего особенного - просто выяснилось, что новая династия не в состоянии править так, как правили «данные народу Богом» законные цари Шан (Инь), и что ей - если она хочет удержаться у власти - придется об этом договариваться. Власть же, вынужденная договариваться с обществом, уже не может не акцентировать своего уважительного к нему отношения. [35]
И всё же главное, что в повелении Кан-вана привлекает к себе внимание, это тотальное оперирование его автором категориями, понятиями и даже отдельными выражениями, до боли знакомыми нам по памятникам иных высоких культур ранней древности (Иванов, 2007, с. 47-77; 2008, с. 171-209).
Единственный известный мне полный перевод надписи «Да Юй дин» опирается на во многом ошибочную, на мой взгляд, разбивку и интерпретационную транскрипцию ее текста, да и в целом едва ли подпадает под определение «научный» (Dobson, 1962, с. 221-226). В посвященной западночжоуской ритуальной эпиграфике обобщающей монографии Шонесси, по сей день остающейся единственной, из надписи «Да Юй дин» оказалась переведена лишь одна фраза из пяти слов (Shaughnessy, 1991, с. 101, 191).
На русский язык текст надписи «Да Юй дин» полностью не переводился, хотя интерес к нему со стороны отдельных исследователей периодически проявлялся. Первопроходцем на пути его изучения, по-видимому, был петербургский синолог К. В. Васильев, включивший еще в 1968 г. перевод отдельных фраз надписи в подготовленные им для тома II «Истории древнего Востока» главы по истории древнего Китая (Васильев, 1998, с. 126, 129, 150). Спустя десятилетие появился перевод ее отдельных более крупных фрагментов, выполненный М. В. Крюковым (Крюков, 1978, с. 352). Впоследствии к переводу отдельных фрагментов обращался также В. М. Крюков (Крюков, 2000, с. 260).
Настоящий перевод, выполненный по пекинскому изданию Го Мо-жо 1958 г. (ЛЧЦВ, т. 2, с. 18; т. 6, с. 33-35), предваряется прямой и интерпретационной транскрипциями текста, причем последняя в отдельных своих местах заметно отличается от ее общепринятой на сегодня версии. Все случаи принципиальных разночтений подробно обсуждаются в комментарии, имеющем в связи с достаточно простой грамматикой текста преимущественно лексический характер.
В переводе используются следующие условные обозначения. В квадратные скобки [ ] заключены все без исключения слова, формально отсутствующие в иероглифическом тексте. При этом в случае когда такие слова, вследствие особенностей древнекитайской грамматики, являются при переводе строго необходимыми, они сохраняют свое написание обычным шрифтом; в случае же когда такие слова выполняют уточняющую или пояснительную функцию, т. е., формально, домысливаются переводчиком (хотя, как правило, также вполне однозначно подсказываются контекстом), - они пишутся курсивом. В угловые скобки < > заключен «перевод» двух полностью не сохранившихся иероглифов, всецело остающийся на совести его автора. Для удобства комментирования, а также соотнесения перевода с обеими предваряющими его транскрипциями его текст разбит на соответствующие фрагменты посредством заключенных в квадратные скобки подстрочных индексов.
| Надпись на сосуде Да Юй дин |
||
| № |
Прямая транскрипция |
Интерпретационная транскрипция |
| [01] |
隹九月王才宗周令盂 |
隹九月王在宗周命盂 |
| [02] |
王若曰 |
王若曰 |
| [03] |
盂不顯玟王受天有大令 |
盂丕顯文王受天有大命 |
| [04] |
在珷王嗣玟乍邦氒匿
|
在武王嗣文作邦闢厥匿 匍有四方畯正厥民 |
| [05] |
在𩁹𰆍事𠭯酉無敢
有 |
在粵御事摣酒無敢囂 有羹烝祀無敢傲 [36] |
| [06] |
古天異臨子 灋保先王
|
故天翼(= 翊)臨子 灋保先王 乎有四方 |
| [07] |
我
隹殷 𩁹殷正百辟
|
我聞殷墜命 隹殷邊侯甸 雩殷正百辟 率肄于酒故 喪師已 |
| [08] |
女妹辰又大服 隹卽朕小學
女勿剋 |
汝昧晨有大服 余隹卽朕小學 汝勿剋余乃辟一人 |
| [09] |
今我隹卽 若玟王令二三正 |
今我隹卽型廩于文王正德 若文王命二三正 |
| [10] |
今
入讕 畏天畏 |
今余隹命汝盂奉(= 封)榮 敬雝德經敏朝夕 入讕享奔走 畏天畏 |
| [11] |
王曰 |
王曰而命汝盂型乃嗣祖南公 |
| [12] |
王曰盂迺 敏誎罰訟夙夕
𩁹我其遹省先王
受民受 |
王曰盂迺 敏敕罰訟夙夕
奉(= 封)我一人 粵我其遹省先王 受民受疆土 |
| [13] |
易女鬯一卣冂衣巿舄輚馬
易乃且南公旂用 易女邦𤔲亖白人鬲 自馭至于庶人六百又五十又九夫 易夷𤔲王臣十又三白人鬲 千又五十夫 |
錫汝鬯一卣冂褧巿舄車馬 錫乃祖南公旂用獸
錫汝邦 自馭至于庶人六百又五十又九夫
錫夷 千又五十夫 急[?][?]自厥土 |
| [14] |
王曰盂若 乃正勿灋朕令 |
王曰盂若 敬乃正勿灋朕命 |
| [15] |
盂用對王休用乍且南公寶鼎 |
盂用對王休用作祖南公寶鼎 |
| [16] |
隹王廿又三祀 |
隹王廿又三祀 |
Перевод
[01] В девятом месяце царь, находясь в Цзунчжоу, отдал Юю [следующее] повеление.
[02] Царь, благословен [он!], сказал: [03] «Юй! Струящий с неба свет Вэнь-ван получил великое повеление Бога [на управление четырьмя сторонами света]. [04] У-ван, наследовав Вэнь-[вану], создал державу [Чжоу] и осуществил его сокровенные замыслы. Приняв в отцовские объятия [бесчисленных] правителей четырех стран света, [У-ван] сделался главою [всех населяющих] их народов. [05] Когда [его] управляющие делами брали в руки жертвенное вино, [они] не смели вести себя шумно; когда [они] приносили мирную жертву [или] возносили жертвоприношения годового цикла, [они] не смели действовать небрежно. [06] Вот почему крыла Бога, укрывая [своего [37] достойного] Сына, согласно Закону [воздаяния], оберегали покойного государя, [а вместе с ним] и [пребывавших в его объятиях бесчисленных] правителей четырех стран света. [07] Как я слышал, инь[ский Шоу-дэ] лишился власти [над четырьмя сторонами света], утратив [данное ему на то божественное] повеление [только] из-за того, что владетели иньской периферии и начальствующие центральных областей Инь поголовно погрязли в пьянстве.
[08] Ты с юности управляешь большим владением, я [же лишь] приступаю к азам науки [управления]. Ты не должен оказывать давление на меня, твоего государя, Единственного-из-людей. [09] Ныне я, приступая к воспроизведению и сбережению прямых путей Вэнь-вана, с благословения Вэнь-вана отдаю повеления [своим] начальствующим. [10] Ныне я повелеваю тебе, Юй, исполнять обязанности [правителя] Жун. Почитай мир, ходи прямыми путями, будь усерден денно и нощно. Входя в Дом молитвы [или] принося жертвы, будь предельно осторожен, страшись страхом Божиим!»
[11] Царь сказал: «Засим повелеваю тебе, Юй, следовать образцу и быть [достойным] преемником твоего покойного деда Нань-гуна».
[12] Царь сказал: «А ещё, Юй, исполняй пожизненно обязанности военачальника, усердно призывай [народ] к порядку, карай и суди [непокорных] денно и нощно. Исполняй [также] обязанности [распорядителя] моих, Единственного-из-людей, жертвоприношений четырем странам света, ради того чтобы я продолжал, удостаиваясь похвалы покойных государей, получать [под свое владычество населяющие их] народы и [занимаемые ими] территории.
[13] Жалую тебе один кувшин ароматного вина, головной убор, халат, фартук, туфли, колесницу и упряжку лошадей. Жалую [тебе] родовой штандарт твоего покойного деда Нань-гуна, пользуйся [им] на охоте. Жалую тебе государевых крепостных, [подначальных] четырем управителям [центральных областей] страны, начиная с возниц и заканчивая простолюдинами, 659 душ мужского пола; жалую тебе государевых крепостных, [подначальных] тринадцати управителям царевых слуг из окраинных областей [страны], 1050 душ мужского пола. Безотлагательно <составь реестр всего их имущества>, начиная с их земли».
[14] Царь сказал: «Юй, будь благословен! Почитай своих начальствующих, не смей скрывать [от них] мои повеления!»
[15] Юй - в ответ на [явленное] царское благоволение - изготовил для [своего] покойного деда Нань-гуна [сей] драгоценный жертвенный сосуд.
[16] 23-й год [правления] царя.
Комментарий
[01] Более или менее стандартная вводная формула подобного рода текстов, содержащая указания имени восприемника царского повеления, а также места и времени его получения. Единственное, что в данной формуле заслуживает обсуждения, это бросающаяся в глаза эклектичность способа записи даты.
Как правило, западночжоуская датировочная формула последовательно перечисляет год правления правящего царя, персонально никогда не конкретизируемого, месяц и день 1. Например: Вэй ван ба нянь ба юэ гуй-чоу 隹王八年八月癸丑 «День гуй-чоу восьмого месяца восьмого года правления царя». При этом указанная трехчленная формула (порой редуцируемая до двух или даже до одного своего компонента) непременно выписывается в самом начале сообщения. В рассматриваемом случае первая его [38] фраза содержит одно лишь упоминание месяца, что было бы вполне обычным явлением, если бы все содержащиеся в тексте компоненты датировки им одним и исчерпывались. Однако это не так, и в заключительной фразе текста обнаруживается отдельно выписанное указание года - Вэй ван нянь ю сань си 隹王廿又三祀 «Двадцать третий год правления царя» [16]. Мало того, в указании этом вместо стандартного для эпохи Западного Чжоу слова нянь 隹 «год» использовано синонимичное ему слово си 祀. Всё это - характерные черты дочжоуской (иньской) традиции записи даты. В качестве стандартного примера последней может быть представлена следующая гадательная надпись: Гуй-чоу бу. Чжэн: «Цзинь суй шоу хэ?» «Хун цзи!» Цзай ба юэ вэй ван ба си 癸丑卜貞 今歲受禾 弘吉 在八月 隹王八祀 «В день гуй-чоу гадали. Вопрошали: "В этом году (суй 歲) получим урожай зерновых?". [Царь, интерпретируя результат гадания, сказал:] "Быть большому счастью!". [Настоящее гадание] имело место в восьмом месяце восьмого года (си 祀) правления царя» (ИЦЦБ, с. 576 № 896). Из представленного примера разом явствует как иньское обыкновение разбивать датировочную формулу на две части, разносимые в противоположные концы текста (указание порядкового номера дня по шестидесятеричной системе счисления - в начале, указание месяца и года царского правления - в конце), так и соответствующее словоупотребление для передачи понятия «год». Последнее в своей сельскохозяйственной ипостаси выражалось у иньцев словом суй 歲, в ритуальной же - словом сы 祀, буквально означавшим годовой цикл царских жертвоприношений. Говоря другими словами, понятие «годы правления» подразумевало у иньцев не что иное, как годы, в которые являвшийся верховным жрецом иньский царь совершал жертвоприношения своим обожествленным предкам. Вот почему обнаружение описанных выше особенностей записи даты в надписи «Да Юй дин» является дополнительным свидетельством ее действительно раннечжоуского происхождения.
[02] Предложенная в переводе трактовка выражения Ван жо юэ 王若曰 «Царь, благословен [он!], сказал...» (= «Царь, да живет [он!], сказал...»), императивно задающая соответствующий план рассмотрения всей инскрипции в целом, слишком инновационна, многозначительна и ответственна, для того чтобы можно было оставить ее без сколько-нибудь обстоятельного разъяснения.
Сложившееся в автохтонной комментаторской традиции (а следом за ней - и в традиции переводческой) превратное истолкование раннечжоуского слова жо 若 как наречия «так» привело к столь же превратному пониманию выражения Ван жо юэ 王若曰 как «Царь так сказал: ...». В действительности в обсуждаемую эпоху слово жо 若 в полной мере еще сохраняло свое исходное значение обретаемого свыше благословения того или иного задуманного царем начинания или - в чуть более широком смысле - обретаемого свыше благословения царя как субъекта «правильного» действия (поведения). Убедиться именно в таком его значении позволяет множество иньских гадательных надписей. Обратимся к нескольким конкретным примерам (Takashima, 1985, с. 366):
| 貞王乍邑 帝若八月 |
[Гадатель] задал вопрос: «Если царь станет строить город [в этом месте], Всевышний благословит [его]?» Восьмой месяц. |
| 貞[王]勿乍邑 帝若 |
[Гадатель] задал вопрос: «Если царь не станет строить город [в этом месте], Всевышний благословит [его]?» |
| 庚申卜 貞 王史人于 若 |
В день гэн-шэнь гадали. [Гадатель] Чжун задал вопрос: «Если царь пошлет людей в Инь, [Всевышний] благословит [его]?» [39] |
| 王 曰 吉若 |
Царь, интерпретируя результат гадания, сказал: «Благоприятно! [Всевышний] благословляет [меня]». |
| 貞勿史人于 不若 |
[Гадатель Чжун] задал вопрос: «Если царь не станет посылать людей в Инь, [Всевышний] не благословит [его]?» |
| 辛丑卜 貞 帝若王 貞帝弗若王 |
В день синь-чоу гадали. [Гадатель] Цзюэ задал вопрос: «Всевышний благословляет царя?» [Гадатель Цзюэ] задал вопрос: «Всевышний не благословляет царя?» |
Во всех этих примерах слово жо 若, являясь предикативом, выступающим в функции сказуемого предложения, обладает вполне определенным знаменательным значением, выражающим позитивное отношение божества 2 к поставленному перед ним вопросу о том или ином задуманном царем предприятии. Дополнительным аргументом в пользу его предложенной в переводе трактовки может служить следующая гадательная надпись (ИЦЦБ, с. 621, № 1084):
| 貞勿正 方 下上弗若 [王 曰] 不我其受又 |
[Гадатель] задал вопрос: «Если [царь] не пойдет карательным походом на [страну] Гун-фан, [его] младшие и старшие [предки] не благословят [его]?» [Царь, интерпретируя результат гадания, сказал:] «[Мои младшие и старшие предки] не поддержат меня». |
В данной надписи, в отличие от рассматривавшихся ранее, субъектом действия жо 若 оказывается уже не Всевышний, а пребывающие одесную его покойные предки царя, что сути дела никак, конечно, не меняет. Здесь важно другое, а именно то, что действие, производимое вышними силами в отношении человека, характеризуется уже не одним, а двумя предикативами, которые, судя по контексту, должны быть в семантическом отношении чрезвычайно близкими. Это - наряду с интересующим нас предикативом жо 若 - еще и предикатив ю 又 (= 祐) «оказывать поддержку свыше». Смысловая когерентность (чтобы не сказать: синонимичность) таких понятий, как «благословение свыше» и «поддержка свыше», достаточно очевидна. Так, перевод слова жо 若 глаголом «благословлять» приобретает известную легитимность, которая при первом же - вооруженном всем вышеизложенным - взгляде на выражение Ван жо юэ 王若曰 форсированно превращается в абсолютную. Перевести его теперь иначе, чем словами «Царь, благословен [он!], сказал:...» или «Царь, да живет [он!], сказал:.», становится крайне затруднительно. Что касается видимой альтернативности предложенных вариантов перевода, то она является мнимой, поскольку термин «благословение» следует понимать здесь не иначе, как «обетование долгих лет жизни». Дело в том, что свое позитивное отношение к тому или иному задуманному царем мероприятию его покойные предки (или непосредственно Всевышний), судя по всему, выражали именно в форме обетования ему долгих лет жизни, тогда как негативное - отказом от такового обетования. Приведу в качестве пояснения к сказанному «буквальный» перевод слова жо 若 в одной из приведенных [40] выше иньских надписей: «[Гадатель] задал вопрос: "Если царь станет строить город [в этом месте], Всевышний обещает [ему] многие лета?". Восьмой месяц». Так же обстоит дело и во всех прочих случаях.
Остается разобраться с интерпретацией графического образа, оказавшегося способным передавать на письме слово со столь абстрактным значением, как «благословение свыше» (= «божественное обетование долгих лет жизни»).
Иньская идеограмма жо 若 имела абсолютно устойчивое начертание, изображавшее фигуру коленопреклоненного человека с воздетыми вверх руками и пучком побегов или длинных листьев на голове, в каковом виде она засвидетельствована, как минимум, в полутора сотнях аньянских гадательных надписей (ЦГВБ, с. 20-21; Takashima, 1985, с. 365-370, 599):
![]()
![]()
Ее заявленная выше интерпретация исходит из анализа особенностей ее последовательных идеографических трансформаций, представленных в нижеследующей таблице.
| Временной период |
Инь - Зап. Чжоу, XIII-VIII вв. до н.э. |
Вост. Чжоу, VIII-III вв. до н.э. |
Цинь (221-206 гг. до н.э.) и далее |
| Форма иероглифа жо 若 |
|
Если западночжоуское написание слова жо 若 ничем еще не отличалось от иньского (кроме, разве что, едва заметных отклонений сугубо стилистического характера), то следующие пять столетий ознаменовались появлением сразу двух его обновлений, в первом из которых несколько стилизованный иньский иероглиф был дополнен комплементом 口 «рот», во втором же - и вовсе заменен лаконичным изображением руки, держащей пучок побегов (ЦВГЛ, с. 399; ЦВГЛБ, с. 311). Наконец, в результате циньской стандартизации письменности знак жо 若 приобретает свою окончательную форму в уставном написании сяо чжуань (![]() ). синтезировавшем в себе оба нововведения предшествующей эпохи - как элемент «рот», так и элемент «руки с пучком побегов». На мой взгляд, характер данных идеографических метаморфоз не оставляет места для сколько-нибудь серьезных сомнений в том, что и в вертикальных линиях над головой коленопреклоненной фигуры в исходной иньской идеограмме
). синтезировавшем в себе оба нововведения предшествующей эпохи - как элемент «рот», так и элемент «руки с пучком побегов». На мой взгляд, характер данных идеографических метаморфоз не оставляет места для сколько-нибудь серьезных сомнений в том, что и в вертикальных линиях над головой коленопреклоненной фигуры в исходной иньской идеограмме ![]() также следует усматривать не что иное, как «побеги или длинные листья», а отнюдь не «всклокоченные волосы» («dishevelled hair»), как это полагал Б. Карлгрен (GSR, с. 205, № 777a-e).
также следует усматривать не что иное, как «побеги или длинные листья», а отнюдь не «всклокоченные волосы» («dishevelled hair»), как это полагал Б. Карлгрен (GSR, с. 205, № 777a-e).
Каким же образом изображение коленопреклоненной фигуры с воздетыми руками и пучком побегов на голове или одно лишь изображение руки с пучком побегов оказывались в состоянии передавать представление о «благословении» как «обетовании долгих лет жизни»? Да, вероятно, точно таким же, как это было в случае с их гораздо более ранними, но достаточно очевидными коррелятами.
Как известно, ветвь финиковой пальмы являлась в Древнем Египте символом бесконечного времени, благодаря своим многочисленным длинным и узким листьям, непосредственно ассоциировавшимся с бессчетным количеством лет, а стилизованное ее изображение служило иероглифом, которым записывалось слово «год». Вот почему бог Хех - древнеегипетская персонификация понятия «вечность» - неизменно изображался с пальмовой ветвью на голове. [41]
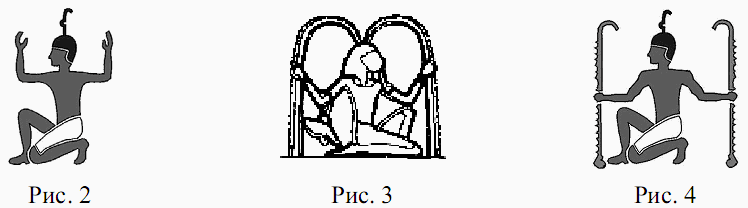
Порой эта ветвь была одна и изображалась в виде обозначавшего ее иероглифа (рис. 2); порой ветвей было две, и они имели пусть стилизованную, но все же куда более натуралистическую форму (рис. 3); порой ветвей оказывалось три (рис. 4). В качестве самостоятельного иероглифа - ![]() - изображение фигуры коленопреклоненного бога Хеха с воздетыми вверх руками и пальмовой ветвью на голове обозначало числительное «миллион».
- изображение фигуры коленопреклоненного бога Хеха с воздетыми вверх руками и пальмовой ветвью на голове обозначало числительное «миллион».
Обратимся теперь к конкретным примерам использования представленного выше божественного персонажа, а также важнейшего его атрибута - пальмовой ветви - в «языке» древнеегипетских изображений (Gardiner, 1916, с. 73-75).
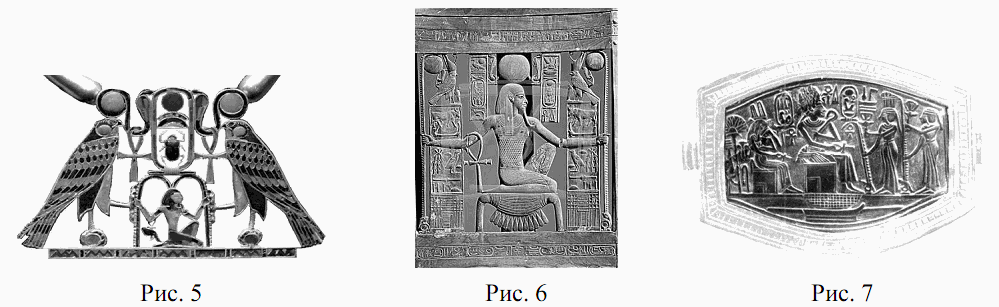
Изображение на пекторали Сенусерта II (рис. 5). Под картушем с тронным именем царя изображен коленопреклоненный бог Хех, держащий в поднятых вверх руках исходящие от его головы пальмовые ветви. Поняв фигуру Хеха в его иероглифическом значении как «миллион», можно было бы «прочитать» данную композицию как предложение «Да живет царь Ха-хепер-Ра миллион лет!». Однако такое прочтение окажется неверным, поскольку на висящем на локте божества знаке жизни - иероглифе «анх» - обнаруживается неуклюже примостившееся изображение головастика - иероглифа, обозначавшего числительное «сто тысяч». Стало быть, в целом фигура Хеха, выступающего здесь исключительно в личном качестве владыки вечности, не подлежит в данном случае формальному «прочтению», и лишь одни только его руки с пальмовыми ветвями уверенно и надежно «читаются» как обетование долгих лет жизни. Конкретизируемое количество последних и уточняет знак головастика. Таким образом, запечатленное на царской пекторали божественное обетование гласит: «Да живет царь Ха-хепер-Ра сто тысяч лет!».
Изображение на спинке кедрового стула Тутанхамона (рис. 6). Несколько иная композиция из тех же значащих элементов, что и на пекторали Сенусерта, - двух картушей с тронным и личным именами царя и изображения Хеха с пальмовыми ветвями в обеих руках. На сей раз уже знакомые нам головастики обнаруживаются не на локте божества, а в основаниях обеих пальмовых ветвей. Данное обстоятельство вновь не позволяет «читать» изображение коленопреклоненного бога как числительное «миллион». И вновь одни только его руки с пальмовыми ветвями «читаются» как обетование долгих лет жизни. Полный текст данного божественного обетования гласит: «Да живет царь Неб-хепру-Ра Сын Ра Тут-анх-Амон сто тысяч лет!». [42]
Изображение на сердоликовой броши Аменхотепа III (рис. 7). Перед восседающим на троне царем с сидящей чуть позади него царицей стоят две их дочери, каждая из которых держит в своей поднятой вверх левой руке систр, а в протянутой к царю правой - пальмовую ветвь, опирающуюся на изображение головастика. Понятно, что - в отличие от бога вечности - царские дочери никак не могли «обещать» своему отцу «сто тысяч лет жизни»; они ему их просто желали, и пальмовые ветви в их руках символизировали уже не божественное обетование долголетия, а всего лишь соответствующее благопожелание. Перед нами сделанное языком изображения мемориальное сообщение следующего содержания: «Царевны приветствуют царя и желают ему сто тысяч лет жизни».
Из представленного материала со всей определенностью явствует, что именно изображение руки с пальмовой ветвью (чья бы эта рука ни была) символизировало адресованное царю «многолетие» («Многие лета!»), желаемое ему его подданными или обетованное свыше. Понятно, что для адекватной передачи последней коннотации требовалось, чтобы означенная рука очевидным для зрителя (= читателя) образом принадлежала божеству. Так, символом обетованного свыше долголетия становится изображение коленопреклоненного бога с пальмовыми ветвями на голове и в обеих воздетых вверх руках.
Не с той же ли в точности коллизией мы сталкиваемся и в написаниях древнекитайского иероглифа жо 若, то оказывающегося изображением коленопреклоненной фигуры с воздетыми руками и пучком побегов на голове (![]() ). то лапидарным изображением руки с пучком побегов (
). то лапидарным изображением руки с пучком побегов (![]() ;
; ![]() )?
)?
В древнекитайской литературе сохранилось любопытное свидетельство, в котором слово жо 若 непосредственно используется в качестве названия священного дерева, символизирующего Запад и, к тому же, наделенного ярко выраженной календарной коннотацией. Совокупность двух этих обстоятельств позволяет заподозрить в подобном дереве не что иное, как финиковую пальму. «Десять солнц» (ши жи 十日), вечно пребывающих на его макушке, - это десять душ покойных иньских царей, которые в гадательных надписях нередко прямо именовались «солнцами» жи 日 (ИЦЦБ, с. 389, № 125, с. 417, № 229, с. 435, № 285, с. 546, № 756). Десять посмертных имен этих «царей-солнц» составляли знаменитый десятиричный цикл «небесных стволов» (тянь-гань 天干), структурировавший непрерывное течение дней посредством десятидневных «недель» (декад) и издревле применявшийся в Китае для целей летосчисления. Речь идет о следующем отрывке из «Хуайнань-цзы» (Хуайнань-цзы, 1928, т. 1, цз. 4, с. 3):
| 扶木在陽州, 日之所曊. |
[Священное] Древо Фу, с которого Солнце начинает [свой ежедневный] путь, растет на Острове Рождения Света. |
| 建木在都廣, 眾帝所自上下, 日中無景, 呼而無響, 蓋天地之中也. |
[Священное] Древо Цзянь, с которого души покойных предков поднимаются [на небо] и спускаются [на землю], растет на середине [солнечного] пути с Востока на Запад. В полдень [там] не бывает тени; издашь звук - не бывает эха. Это - центр Неба и Земли. |
| 若木在建木西, 末有十日, 其華照下地. |
[Священное] Древо Жо растет к западу от Древа Цзянь. На его вершине пребывают десять солнц. Их сияние [постоянно] озаряет Нижнюю Землю (= Подземный Мир). |
Вообще говоря, плотность отраженных в данном отрывке фундаментальных представлений древнеегипетского религиозного мировоззрения просто поражает. Причем все эти представления - весьма и весьма специфические. Это и представление [43] о Древе, с которого душа покойного взмывает в небо или слетает на землю и под нее. Вспомним сидящую на священном древе у могилы Осириса его птицеобразную душу ба, готовую, взмыв с него в небо, взойти и проплыть по нему видимым Солнцем, а спустившись с него под землю, закатиться и воссоединиться с вечно пребывающим там телом Владыки. Это и представление о солнечной освещенности Подземного мира и его вечных обитателей. Для кого же еще сияют десять «солнечных душ» покойных иньских царей на вершине Священного Древа Запада?! Это и сама десятидневная «неделя» в качестве важнейшей календарной единицы счета времени.
[03] Перевод словосочетания бу сянь 不顯 (в позднейшем написании - пи сянь 丕顯) выражением «струящий с неба свет» имеет под собой следующие основания. Согласно определению «Шо вэнь цзе цзы», слово бу 不 означает «верхний предел полета птицы», т. е. «Небо». К тому же оно является антонимом слова чжи 至, определяемого Сюй Шэнем как «нижний предел полета птицы», т. е. «Земля», - что дополнительно подтверждает его заявленную выше трактовку. О том же свидетельствует и сама идеография знаков бу 不 и чжи 至, начиная с их древнейших начертаний и заканчивая начертаниями циньского уставного письма сяо чжуань. Что касается слова сянь 顯, то, согласно тому же источнику, оно означает некое «всевидящее (зоркое?; лучезарное?) головное украшение» (顯: 頭明飾也), неотвратимо наводящее на мысль о «змеином солнечном оке», венчавшем короны египетских фараонов, или о так называемой «змейке впрямь» на амарнских изображениях солнечного диска. В самом деле, то, что идеограмма сянь ![]() (древнейшее написание знака 顯, не содержавшее еще детерминатива 頁 «голова»), составленная из пиктограмм 日 «солнце» и 絲 «нити», ничего, кроме солнечных лучей и имманентно присущих им действий (освещать и согревать всё сущее, давать жизнь всему сущему, литься вниз и т. д.), не означает, едва ли требует каких-то доказательств. Вот почему в сочетании, с одной стороны, с пространственным показателем бу 不 (= пи 丕) «с Неба; сверху; свыше», а с другой - с посмертным именем государя (Вэнь-ван 玟王) она и образует предложенное в переводе определение, к тому же позволившее его автору счастливо уклониться от более точного, но совсем уже эпатирующего варианта перевода первой фразы царского повеления, а именно «Простирающий [к нам] с неба [свои] лучи[-руки] Вэнь-ван...».
(древнейшее написание знака 顯, не содержавшее еще детерминатива 頁 «голова»), составленная из пиктограмм 日 «солнце» и 絲 «нити», ничего, кроме солнечных лучей и имманентно присущих им действий (освещать и согревать всё сущее, давать жизнь всему сущему, литься вниз и т. д.), не означает, едва ли требует каких-то доказательств. Вот почему в сочетании, с одной стороны, с пространственным показателем бу 不 (= пи 丕) «с Неба; сверху; свыше», а с другой - с посмертным именем государя (Вэнь-ван 玟王) она и образует предложенное в переводе определение, к тому же позволившее его автору счастливо уклониться от более точного, но совсем уже эпатирующего варианта перевода первой фразы царского повеления, а именно «Простирающий [к нам] с неба [свои] лучи[-руки] Вэнь-ван...».
Как известно, Египет эпохи Среднего царства выработал представление о том, что солнечная составляющая души царя, уносясь после его смерти к Солнцу, сливается с последним. Апогея в своем развитии это представление достигло в эпоху Нового царства и, особенно, в пору амарнского солнцепоклонничества (середина XIV в. до н.э.). Не может быть никаких сомнений в том, что на изображениях молящегося Солнцу Эхнатона последний в его (Солнца) образе молится также и собственному покойному отцу. С той же в точности культовой идеологией мы сталкиваемся и в иньском Китае, надежной порукой чему служат посмертные - сугубо «солнечные» - имена шанских владык. То обстоятельство, что чжоуские покойные государи, как явствует из обсуждаемого выражения, также проливают на своих потомков солнечный свет (если только не простирают к ним свои солнечные «лучи-руки»), свидетельствует о том, что эта идеология осталась неизмененной при смене одной династии на другую.
Тянь ю да мин 天有大命 «великое повеление Бога [на управление четырьмя сторонами света]». Здесь и далее словом «Бог» и производными от него переводится слово Тянь 天, представляющее собой одно из ипостасных имен Шан Ди - верховного божества иньцев и чжоусцев.
[04] Общепринятая трактовка выражения пу ю-сыфан 匍有四方 как сказуемого пу ю 匍有 (обычно понимаемого как фу-ю 敷佑 «распространять покровительство») [44] с дополнением сыфан 四方 «четыре стороны света» представляется мне ошибочной. На мой взгляд, данная конструкция состоит из сказуемого пу 匍 «принимать (заключать) в отцовские объятия» 3 и дополнения ю-сыфан 有四方 «правители четырех стран света». Указанная трактовка дополнения исходит из предположения о его синонимичности словосочетанию эр-сань чжэн 二三正 (см. [09]), означающему «неопределенное множество начальствующих», к числу которых, как явствует из контекста, относится и адресат царского обращения Юй, являвшийся правителем владения Жун. Синонимично оно и таким известным выражениям, как до-би 多辟 «многие правители», чжу-хоу 諸侯 «все владетели», а также гораздо более позднему литературному выражению цзю-чжоу чжи цзюнь 九州之君 «правители всей земли».
В контексте фразы, повествующей о воцарении У-вана, трактовка словосочетания ю-сыфан 有四方 как «[бесчисленных] правителей четырех стран света» выглядит достаточно органично и осмысленно, в особенности если припомнить пару соответствующих пассажей из «Исторических записок» (Ши цзи, 1936, цз. 4, с. 63, 65):
| 是時諸侯不期 而會盟津者八百諸侯 諸侯皆曰紂可伐矣 武王曰女未知天命 未可也 |
В это время все правители, не сговариваясь, собрались в Мэнцзяне в количестве 800 человек. Все правители единодушно заявили: «Чжоу [Синя] можно покарать!». [Однако] У-ван ответил [им]: «Вы не знаете воли Бога. Еще нельзя!» |
| 武王徵九牧之君 登豳之阜 以望商邑 |
У-ван, собрав правителей всего обитаемого мира*, поднялся [с ними] на холм Бинь, с тем чтобы обозреть города [завоёванного им] Шан. |
* Выражение цзю-му чжи цзюнь 九牧之君 эквивалентно здесь выражению цзю-чжоу чжи цзюнь 九州之君.
Вот эти-то «правители всего обитаемого мира» и пребывали «в отцовских объятиях» У-вана. Обозначением же обитаемого мира в эпоху Западного Чжоу как раз и служило словосочетание сыфан 四方 «четыре стороны света», которое вкупе с предшествующим ему служебным показателем принадлежности ю 有 и образует выражение указанного в переводе значения. Остается только добавить, что представление о чжоуском государе как царе царствующих также очень хорошо коррелирует с соответствующей древнеегипетской традицией.
[05] Этот замечательный в литературном отношении параллелизм более всего пострадал в процессе своей научной интерпретации, в результате которой три исключительно важных слова в нем оказались поняты неверно. Рассмотрим эти слова в наиболее удобной для целей их идентификации последовательности.
1) Идеограмма ![]() представляет собой древнейшее написание слова гэн (*kăng) 羹 «Великая (мирная) жертва».
представляет собой древнейшее написание слова гэн (*kăng) 羹 «Великая (мирная) жертва».
Единодушное отождествление специалистами иероглифа ![]() (
(![]() ) с иероглифом чай 祡 «приносить жертву всесожжения» никакой критики, на мой взгляд, не выдерживает. Данные знаки роднит друг с другом один лишь комплемент цы 此, толкуемый в обоих как фонетик. В таком случае значение знака
) с иероглифом чай 祡 «приносить жертву всесожжения» никакой критики, на мой взгляд, не выдерживает. Данные знаки роднит друг с другом один лишь комплемент цы 此, толкуемый в обоих как фонетик. В таком случае значение знака ![]() , очевидно, должно было бы определяться прочими его комплементами, главным из которых является [45] идеограмма ли 𩰲 в сокращенном варианте своего написания, вследствие чего резонно было бы предположить, что искомый знак - наличествуй он в «Шо вэнь цзе цзы» - должен располагаться под ключом № 72 ли 𩰲, а вовсе не под ключом № 3 ши 示. Тем не менее под ключом ли 𩰲 иероглиф
, очевидно, должно было бы определяться прочими его комплементами, главным из которых является [45] идеограмма ли 𩰲 в сокращенном варианте своего написания, вследствие чего резонно было бы предположить, что искомый знак - наличествуй он в «Шо вэнь цзе цзы» - должен располагаться под ключом № 72 ли 𩰲, а вовсе не под ключом № 3 ши 示. Тем не менее под ключом ли 𩰲 иероглиф ![]() (
(![]() ) никто и никогда в «Шо вэнь цзе цзы» почему-то не искал.
) никто и никогда в «Шо вэнь цзе цзы» почему-то не искал.
| Оригинальный иероглиф в прямой транскрипции |
Общепринятая интерпретация |
Актуальная интерпретация |
|
| 1) |
祡 |
*kăng 羹 |
|
| 2) |
(= 酗) |
*xįog 囂 |
|
| 3) |
醉 |
*ngog 傲 |
В самом деле, ключевая часть знака ![]() 4 представляет собой комбинацию идеограммы ли 𩰲 (рисунок ритуального сосуда ли 鬲 с двумя струйками поднимающегося пара
4 представляет собой комбинацию идеограммы ли 𩰲 (рисунок ритуального сосуда ли 鬲 с двумя струйками поднимающегося пара ![]() от готовящейся в нем жертвы), сокращённой в данном варианте своего написания до верхнего графического элемента
от готовящейся в нем жертвы), сокращённой в данном варианте своего написания до верхнего графического элемента ![]() , и пиктограммы да 大. обладавшей значением «великий», из чего можно заключить, что слово должно означать: «приготовление некой Великой жертвы в особом ритуальном сосуде» (𩰲 + 大). Подобным образом, как известно из «И ли», в раннечжоуском Китае именовалась одна только жертва Гэн-ци 羹湇 - «агнец, тушеный в собственном соку», - полным названием которой было название Да Гэн-ци 大羹湇 «Великая жертва агнца, тушеного в собственном соку», кратким же - однословное Гэн 羹 «жертва агнца» 5. Самого по себе данного факта было бы, конечно, совершенно недостаточно для отождествления иероглифов
, и пиктограммы да 大. обладавшей значением «великий», из чего можно заключить, что слово должно означать: «приготовление некой Великой жертвы в особом ритуальном сосуде» (𩰲 + 大). Подобным образом, как известно из «И ли», в раннечжоуском Китае именовалась одна только жертва Гэн-ци 羹湇 - «агнец, тушеный в собственном соку», - полным названием которой было название Да Гэн-ци 大羹湇 «Великая жертва агнца, тушеного в собственном соку», кратким же - однословное Гэн 羹 «жертва агнца» 5. Самого по себе данного факта было бы, конечно, совершенно недостаточно для отождествления иероглифов ![]() (
(![]() ) и гэн 羹, не существуй дополнительно одного в высшей степени примечательного обстоятельства. Иероглиф гэн 羹 располагается в «Шо вэнь цзе цзы» именно под ключевым знаком № 72 ли 𩰲, к которому, как уже было сказано, несомненно, принадлежит и знак
) и гэн 羹, не существуй дополнительно одного в высшей степени примечательного обстоятельства. Иероглиф гэн 羹 располагается в «Шо вэнь цзе цзы» именно под ключевым знаком № 72 ли 𩰲, к которому, как уже было сказано, несомненно, принадлежит и знак ![]() того же в точности значения - «Великой жертвы, готовящейся в ритуальном сосуде». При этом в отличие от знака в котором детерминатив ли 𩰲 представлен, по крайней мере, верхней своей частью -
того же в точности значения - «Великой жертвы, готовящейся в ритуальном сосуде». При этом в отличие от знака в котором детерминатив ли 𩰲 представлен, по крайней мере, верхней своей частью - ![]() , в иероглифе гэн 羹 от него не остается уже ни малейшего следа. «Шо вэнь цзе цзы» представляет известные его автору написания знака гэн 羹 в следующей последовательности (ШВЦЦ-1, с. 86-87):
, в иероглифе гэн 羹 от него не остается уже ни малейшего следа. «Шо вэнь цзе цзы» представляет известные его автору написания знака гэн 羹 в следующей последовательности (ШВЦЦ-1, с. 86-87):
| 1 |
Идеограмма, составленная из двух комплементов - ли 𩰲 (ритуальный сосуд ли 鬲 с двумя струйками поднимающегося пара |
|
| 2 |
Идеограмма, составленная из двух комплементов - ли 鬲 (сокращённое написание знака ли 𩰲) и гао 羔 «жертвенный агнец». |
|
| 3 |
|
Идеограмма, составленная из трех комплементов |
| 4 |
Идеограмма, составленная из двух комплементов - гао 羔 «жертвенный агнец» и мэй 美 «благословенный, благодатный» 7. Это уставное написание сяо чжуань иероглифа гэн 羹. |
С формальной точки зрения первое из представленных выше написаний читается как «жертвенный агнец (гао 羔), готовящийся в ритуальном сосуде (𩰲)», второе - как «жертвенный агнец (гао 羔) в ритуальном сосуде (ли 𩰲)», третье - как «приготовление благословенного (мэй 美) жертвенного агнца (гао 羔)» и, наконец, четвёртое - не содержащее уже ни одного элемента ключевого знака ли 𩰲 - как «благословенный (мэй 美) жертвенный агнец (гао 羔)», решительно отвлеченный от каких-либо указаний как на сам процесс его приготовления ![]() . так и на его инструментальные особенности (сосуд ли 鬲). При этом нельзя не обратить внимания на то обстоятельство, что все без исключения иероглифические обозначения понятия Гэн являются идеограммами. Не просматривается ни единой попытки передать его фонетическим знаком, например через комбинацию детерминатива ян 羊 «баран» с тем или иным фонетиком, имеющим чтение гэн (например, гэн 庚 или гэн 更). Вот почему предлагаемая мной трактовка знака
. так и на его инструментальные особенности (сосуд ли 鬲). При этом нельзя не обратить внимания на то обстоятельство, что все без исключения иероглифические обозначения понятия Гэн являются идеограммами. Не просматривается ни единой попытки передать его фонетическим знаком, например через комбинацию детерминатива ян 羊 «баран» с тем или иным фонетиком, имеющим чтение гэн (например, гэн 庚 или гэн 更). Вот почему предлагаемая мной трактовка знака ![]() как древнего варианта написания иероглифа гэн 羹 исходит из предположения о том, что наличествующие в его составе дополнительные комплементы да 大 и цы 此 также лишены какой-либо фонетической функции. Как же в таком случае их следует трактовать?
как древнего варианта написания иероглифа гэн 羹 исходит из предположения о том, что наличествующие в его составе дополнительные комплементы да 大 и цы 此 также лишены какой-либо фонетической функции. Как же в таком случае их следует трактовать?
Я полагаю, что комплементы да 大 и цы 此 играют в сложной идеограмме ![]() роль специальных эпитетов готовившейся в ритуальном сосуде ли 𩰲 жертвы, точно так же как комплемент мэй 美 «благословенный (благодатный)» выступал в роли специального эпитета жертвенного агнца (гао 羔) в ее обозначении гэн 羹. Если первый из этих эпитетов - да 大 «великий» - особых толкований не требует, то второй - цы 此 - представляется мне сокращенным написанием слова ци
роль специальных эпитетов готовившейся в ритуальном сосуде ли 𩰲 жертвы, точно так же как комплемент мэй 美 «благословенный (благодатный)» выступал в роли специального эпитета жертвенного агнца (гао 羔) в ее обозначении гэн 羹. Если первый из этих эпитетов - да 大 «великий» - особых толкований не требует, то второй - цы 此 - представляется мне сокращенным написанием слова ци ![]() 泚 «чистый» или, что еще более вероятно, слова ци (𦍧) «чистый (без порока; пригодный для жертвоприношения) агнец» 8. Впрочем, сугубо ритуальный смысл «чистоты» ци 泚 также не вызывает сомнений в связи с принадлежностью данного слова к кругу таких [47] понятий, как цин 清 9, лан 朖 и мин 明 10, о чем свидетельствуют следующие определения «Шо вэнь цзе цзы»:
泚 «чистый» или, что еще более вероятно, слова ци (𦍧) «чистый (без порока; пригодный для жертвоприношения) агнец» 8. Впрочем, сугубо ритуальный смысл «чистоты» ци 泚 также не вызывает сомнений в связи с принадлежностью данного слова к кругу таких [47] понятий, как цин 清 9, лан 朖 и мин 明 10, о чем свидетельствуют следующие определения «Шо вэнь цзе цзы»:
| 泚:清也 |
Ци 泚 это - цин 清. |
| 清:朖也 |
Цин 清 это - лан 朖. |
| 朖:明也 |
Лан 朖 это - мин 明. |
Подытожим: этимология иероглифа гэн 羹 в его древнейшем написании ![]() (
(![]() ) сводится к представлению о «приготовлении в специальном ритуальном сосуде (𩰲) великой (大) чистой (泚/
) сводится к представлению о «приготовлении в специальном ритуальном сосуде (𩰲) великой (大) чистой (泚/ ![]() ) жертвы» -
) жертвы» -
![]() =
= ![]() (𩰲 сокр.) + 大 + 此 (泚 сокр./
(𩰲 сокр.) + 大 + 此 (泚 сокр./ ![]() сокр.)
сокр.)
Содержащее иероглиф ![]() (
(![]() ) словосочетание 有
) словосочетание 有 ![]() будучи понятым как ю-гэн 有羹 «приносить жертву Гэн», незамедлительно обнаруживает не только семантическую однородность с параллельным ему словосочетанием чжа-цзю 摣酒 «держать в руках жертвенное вино» (из первой фразы обсуждаемого грамматического параллелизма), но также и неразрывную смысловую связь с ним. Факт существования последней убедительно подтверждается древнейшими литературными источниками, в частности, единственным случаем употребления иероглифа гэн 羹 в «Шан шу». В третьей части главы «Юэ мин» встречается изумительный по своей красоте параллелизм, свидетельствующий о нерасторжимости представлений о «жертвенном вине» и «мирной жертве Гэн» (Шан шу, 1936, цз. 5.14, с. 31):
будучи понятым как ю-гэн 有羹 «приносить жертву Гэн», незамедлительно обнаруживает не только семантическую однородность с параллельным ему словосочетанием чжа-цзю 摣酒 «держать в руках жертвенное вино» (из первой фразы обсуждаемого грамматического параллелизма), но также и неразрывную смысловую связь с ним. Факт существования последней убедительно подтверждается древнейшими литературными источниками, в частности, единственным случаем употребления иероглифа гэн 羹 в «Шан шу». В третьей части главы «Юэ мин» встречается изумительный по своей красоте параллелизм, свидетельствующий о нерасторжимости представлений о «жертвенном вине» и «мирной жертве Гэн» (Шан шу, 1936, цз. 5.14, с. 31):
| 若作酒醴爾惟麴蘖 |
Ты - [для меня], - что дрожжи и солод для готовящего жертвенное вино! 11 |
| 若作和羹爾惟鹽梅 |
Ты - [для меня], - что соль и слива для готовящего мирную жертву Гэн 12! |
То же явление обнаруживается и в единственном случае содержательного употребления иероглифа гэн 羹 в «Ши цзин» - во второй строфе гимна Ле цзу 烈 祖 (Мао ши, 1936, цз. 20.30, с. 165):
| 旣載清酤 賚我思成 |
[Я] преподнес [предку] чистое вино, - да дарует [он] мне свершение [всех моих] замыслов! |
| 亦有和羹 旣戒旣平 |
А вот, приношу [ему] мирную жертву Гэн, - [как все] замерли, [как все] притихли! |
Для большей наглядности сведем представленные выше лексические данные, связанные с обсуждаемой парой понятий, в общую таблицу: [48]
| Компоненты жертвоприношения |
Надпись «Да Юй дин» |
«Шан шу», гл. «Юэ мин» |
«Ши цзин», «Ле цзу» |
| возлияние вина |
摣酒 |
作酒醴 |
載清酤 |
| мирная жертва Гэн |
有羹 |
作和羹 |
有和羹 |
Обратим внимание на то примечательное обстоятельство, что во всех этих случаях возлияние жертвенного вина неизменно предшествует принесению жертвы Гэн. Еще более примечательна очевидная тождественность словосочетаний ю-хэгэн 有和羹 «приносить мирную жертву Гэн» (в цитате из «Ши цзин») и ю-гэн 有 ![]() (有羹) «при носить жертву Гэн» (из надписи «Да Юй дин») 13.
(有羹) «при носить жертву Гэн» (из надписи «Да Юй дин») 13.
Теперь, когда содержание обоих придаточных предложений обсуждаемого грамматического параллелизма полностью прояснено, остается разобраться со значением двух запретов, сформулированных в его главных предложениях:
Когда управляющие делами брали в руки вино, [они] не смели совершать действие ![]() ; когда [они] приносили жертву Гэн [или] возносили жертвоприношения годового цикла, [они] не смели совершать действие .
; когда [они] приносили жертву Гэн [или] возносили жертвоприношения годового цикла, [они] не смели совершать действие . ![]()
С первого взгляда на пару подлежащих идентификации иероглифов ![]() и
и ![]() становится понятно, что скрывающиеся за ними слова если и не являются омонимами, то, как минимум, рифмуются друг с другом, поскольку обнаруживаемый в составе каждого из обозначающих их иероглифов комплемент ю (*zįôg) 酉 (GSR, с. 282 № 1096a-g), очевидным образом, выполняет в них функцию фонетика. В самом деле, если предположить обратное - то, что комплемент 酉 (с его значением «сосуд для вина») выполняет в обоих знаках в целом более свойственную ему функцию детерминатива, - то окажется, что стоящие за ними слова если и не являются синонимами, то, во всяком случае, непосредственно связаны с использованием вина. А это решительно невозможно: фразеологизм из двух структурно идентичных сложноподчиненных предложений с отнюдь не тождественными сказуемыми придаточных не должен иметь синонимичных сказуемых главных предложений. Не могут предложения, сообщающие о жертвоприношениях вина (1) и животных (2), завершаться синонимичными запретами, связанными с употреблением вина. Вариант же когда в первом случае комплемент 酉 мог выступать в качестве детерминатива, а во втором - в качестве фонетика, не стоит даже рассматривать: текст параллелизма в таком случае просто переставал быть «читаемым».
становится понятно, что скрывающиеся за ними слова если и не являются омонимами, то, как минимум, рифмуются друг с другом, поскольку обнаруживаемый в составе каждого из обозначающих их иероглифов комплемент ю (*zįôg) 酉 (GSR, с. 282 № 1096a-g), очевидным образом, выполняет в них функцию фонетика. В самом деле, если предположить обратное - то, что комплемент 酉 (с его значением «сосуд для вина») выполняет в обоих знаках в целом более свойственную ему функцию детерминатива, - то окажется, что стоящие за ними слова если и не являются синонимами, то, во всяком случае, непосредственно связаны с использованием вина. А это решительно невозможно: фразеологизм из двух структурно идентичных сложноподчиненных предложений с отнюдь не тождественными сказуемыми придаточных не должен иметь синонимичных сказуемых главных предложений. Не могут предложения, сообщающие о жертвоприношениях вина (1) и животных (2), завершаться синонимичными запретами, связанными с употреблением вина. Вариант же когда в первом случае комплемент 酉 мог выступать в качестве детерминатива, а во втором - в качестве фонетика, не стоит даже рассматривать: текст параллелизма в таком случае просто переставал быть «читаемым».
Что касается потенциальной способности знака ю (*zįôg) 酉 выступать в фонетических иероглифах в роли фонетика, то она не подлежит ни малейшему сомнению. Уже в «Шо вэнь цзе цзы» комплемент ю (*zįôg) 酉 прямо указывается в качестве такового в составе таких иероглифов, как ю (*zįôg) 槱, ю (*zįôg) 庮, чоу (ťįôg) 醜, най (*nəg) 逎. Таковой же была его роль и в знаках ![]() и
и ![]() .
.
2) Фонетический иероглиф ![]() представляет собой древнейшее написание слова сяо (*χįog) 囂 «громко разговаривать; кричать; шуметь».
представляет собой древнейшее написание слова сяо (*χįog) 囂 «громко разговаривать; кричать; шуметь».
1. Приблизительное звучание скрывающегося за иероглифом ![]() слова подсказывается его фонетическим комплементом - *zįôg 酉. [49]
слова подсказывается его фонетическим комплементом - *zįôg 酉. [49]
2. Значение данного слова заключено в образе «пламенный язык» (火 «огонь» + 舌 «язык»), представленном в правом комплементе иероглифа ![]() . При этом следует иметь в виду, что «язык» шэ 舌 понимался в ранней древности не иначе, как орган речи, что исключает трактовку вышеозначенного образа как метафоры ненасытности (всепожирающего языка пламени) вместе с вытекающим из нее отождествлением слова
. При этом следует иметь в виду, что «язык» шэ 舌 понимался в ранней древности не иначе, как орган речи, что исключает трактовку вышеозначенного образа как метафоры ненасытности (всепожирающего языка пламени) вместе с вытекающим из нее отождествлением слова ![]() со словом *t’og 饕 «быть ненасытным; страстно предаваться чему-л.». Так, единственно возможной интерпретацией данного образа оказывается его трактовка как метафоры речевой разнузданности того или иного рода. Вот почему слово
со словом *t’og 饕 «быть ненасытным; страстно предаваться чему-л.». Так, единственно возможной интерпретацией данного образа оказывается его трактовка как метафоры речевой разнузданности того или иного рода. Вот почему слово ![]() , с высокой долей вероятности, должно обладать предикативным значением «говорить на повышенных тонах; кричать; шуметь».
, с высокой долей вероятности, должно обладать предикативным значением «говорить на повышенных тонах; кричать; шуметь».
3. Слово с указанным выше звучанием и значением хорошо известно. Это слово - *χįog 囂 (GSR, с. 293 № 1140a-b) «громко разговаривать; кричать; шуметь». На этом идентификация знака ![]() , строго говоря, завершается.
, строго говоря, завершается.
4. При желании можно «подкрепить» ее какой-нибудь более или менее подходящей цитатой, например из «Чжоу ли» (Чжоу ли, 1936, цз. 37, с. 239):
| 銜枚氏, 掌司囂. 國之大祭祀, 令禁無囂. |
[Чиновник] сянь-мэй-ши («блюститель тишины»). Управляет [чиновниками] сы-сяо («ответственный за шум»). На государственных Великих жертвоприношениях царским предкам отдает запретительное повеление «Не шуметь!». |
О том же самом запрете на громкую речь, столь же непосредственно связанном с участием в царских жертвоприношениях, говорится и в первой части обсуждаемого параллелизма надписи «Да Юй дин»: «Когда [его (У-вана)] управляющие делами брали в руки жертвенное вино, [они] не смели вести себя шумно» (Юй-ши чжа-цзю у гань сяо 御事摣酒無敢囂).
5. Учитывая очевидно поздний и искусственный характер такого памятника, как «Чжоу ли», возможно, не лишним будет подтвердить словоупотребление иероглифа сяо (*χįog) 囂 в его указанном выше значении примерами из каких-то заведомо более ранних и надежных источников. Ограничусь примером из «Шан шу» (Шан шу цзинь гу вэнь, 1936, с. 8):
| 允釐百工 庶績咸熙 帝曰 |
Когда управление всеми работами было приведено в согласие [с движением Солнца] и результаты народных трудов стали значительными, государь сказал: |
| 疇咨 若時登庸 |
«О [пастыри девяти] областей, выберите достойного ежечасно руководить [всеми этими] работами». |
| 放齊曰 胤子朱啓明 |
Фан Ци сказал: «[Ваш] наследник первенец-Чжу [достаточно] мудр, [чтобы справиться с этой задачей]». |
| 帝曰吁 嚚訟可乎 |
Государь сказал: «Да ну?! [Он же] крикун и спорщик. Как можно [поставить такого]?!» |
6. В том, что слово ![]() идентифицируемое как сяо (*χįog) 嚚 «громко разговаривать; кричать; шуметь», является в обсуждаемом контексте надписи «Да Юй дин» совершенно не случайным, сомневаться не приходится. Об исключительной важности соблюдения тишины в ритуалах царских жертвоприношений предкам недвусмысленно свидетельствует содержание первых трех строф частично выше уже цитировавшегося литургического гимна Ле цзу 烈 祖 (Мао ши, 1936, цз. 20.30, с. 165): [50]
идентифицируемое как сяо (*χįog) 嚚 «громко разговаривать; кричать; шуметь», является в обсуждаемом контексте надписи «Да Юй дин» совершенно не случайным, сомневаться не приходится. Об исключительной важности соблюдения тишины в ритуалах царских жертвоприношений предкам недвусмысленно свидетельствует содержание первых трех строф частично выше уже цитировавшегося литургического гимна Ле цзу 烈 祖 (Мао ши, 1936, цз. 20.30, с. 165): [50]
| 嗟嗟烈祖 有秩斯祐 |
- Ревнивейший из ревнивцев, [твой] достославный предок оказывает свою поддержку [лишь тем, кто] соблюдает строжайший порядок [в посвященных ему ритуалах]. |
| 申錫無疆 及爾斯所 |
[Его] щедрые дарования, не ведая конца, Да пребудут с тобою! |
| 旣載清酤 賚我思成 亦有和羹 旣戒旣平 |
- [Я] преподнес [предку] чистое вино, - да дарует [он] мне свершение [всех моих] замыслов! А вот, приношу [ему] мирную жертву, - [как все] замерли, [как все] притихли! |
| 鬷假無言 時靡有爭 綏我眉壽 黃耇無疆 |
Собравшиеся не говорят [в полный голос] 14, в такой момент не бывает споров. Да ниспосылает мне [предок] седобровое долголетие, [волосы] цвета выгоревшей соломы и [глубочайшие] морщины - бесконечно! |
3) Фонетический иероглиф ![]() представляет собой древнейшее написание слова ао (*ngog) 傲 «проявлять небрежение; быть распущенным; вести себя развязно».
представляет собой древнейшее написание слова ао (*ngog) 傲 «проявлять небрежение; быть распущенным; вести себя развязно».
1. Приблизительное звучание скрывающегося за иероглифом ![]() слова подсказывается его фонетическим комплементом - *zįôg 酉.
слова подсказывается его фонетическим комплементом - *zįôg 酉.
2. Значение данного слова заключено в образе «рогатого одноногого существа с телом дракона или быка и с руками и лицом человека». Таково, согласно «Шо вэнь цзе цзы», значение идеограммы куй 夔 - правой части иероглифа ![]() , - полностью подтверждаемое идеографией соответствующего иньского иероглифа. Подобный образ, в силу ярко и убедительно запечатленных в нем качеств «ущербности» (одноногость) и «несообразности» (тело дракона или быка в сочетании с руками и лицом человека), по-видимому, довольно легко мог исполнять роль очевидной для всех метафоры всякого беспорядка как того или иного отклонения от нормы. Вот почему слово
, - полностью подтверждаемое идеографией соответствующего иньского иероглифа. Подобный образ, в силу ярко и убедительно запечатленных в нем качеств «ущербности» (одноногость) и «несообразности» (тело дракона или быка в сочетании с руками и лицом человека), по-видимому, довольно легко мог исполнять роль очевидной для всех метафоры всякого беспорядка как того или иного отклонения от нормы. Вот почему слово ![]() с высокой долей вероятности должно обладать предикативным значением «нарушать порядок чего-л.; отступать от чего-л. общепринятого; небрежно относиться к чему-л.; вести себя несоответственно (несообразно); быть развязным (распущенным)».
с высокой долей вероятности должно обладать предикативным значением «нарушать порядок чего-л.; отступать от чего-л. общепринятого; небрежно относиться к чему-л.; вести себя несоответственно (несообразно); быть развязным (распущенным)».
3. Слово с указанным выше звучанием и значением известно. Это слово - *ngog 傲 (GSR, с. 290 № 1130d) «проявлять небрежение; быть распущенным; вести себя развязно». На этом идентификация знака ![]() заканчивается.
заканчивается.
4. При желании можно «подкрепить» ее какой-нибудь более или менее подходящей цитатой, например из оды Сан ху 桑扈 (Мао ши, цз. 14.21, с. 105): [51]
| 兕觥其觩 旨酒思柔 彼交匪敖 萬福來求 |
[Пусть] носорожьи рога поднимаются [всё выше], - сладкое жертвенное вино исполнено мягкости. [Поскольку] участники [жертвенной трапезы] не допускают [ни малейшей] развязности, - всемерная поддержка [предков неизменно] прибывает [им] в помощь 15. |
Здесь необходимо сделать одно важное уточнение. Дело в том, что при цитировании данного четверостишия в «Цзо чжуань» 16 (Чунь-цю цзин чжуань, цз. 13, с. 201) на месте знака ао 敖 обнаруживается иероглиф ао 傲, каковой и приходится считать подлинным знаком оригинального текста стихотворения. Существенным же данное уточнение делает то обстоятельство, что слова ао 敖 и ао 傲, согласно «Шо вэнь цзе цзы», сильно разнятся по своему значению: если ао 敖 обладает значением «отправляться на прогулку (в путешествие)» (敖: 出游也), то ао 傲 - «не соблюдать что-л.; отклоняться от чего-л.; не подчиняться чему-л.; быть развязным (распущенным; нелояльным)» (傲: 倨也; 倨: 不遜也).
Что касается смысла данного четверостишия, то он достаточно ясен. Первое двустишие сообщает о способе выполнения участниками жертвоприношения первого обязательного условия обретения ими благоволения предков, а именно их достойного поведения в связи с употреблением во время ритуальной трапезы жертвенного вина. Последнее в этих целях предусмотрительно готовилось «исполненным мягкости», т. е. довольно слабым. Во втором двустишии - перед финальным возвещением всемерной поддержки со стороны уваженных жертвоприношением предков - сообщается о необходимости выполнения его участниками еще одного непременного условия получения искомой ими поддержки, а именно строжайшего соблюдения всех прочих предписанных правил поведения, исключающего проявление в их отношении какого бы то ни было небрежения. Данное условие формулируется в тексте в негативной форме фэй ао 匪敖 (= 匪傲!) «не допускать развязности (распущенности, небрежности)» - точно так же как в синонимичном ему выражении у гань ао 無敢傲 «не сметь быть развязными (распущенными, небрежными)» в надписи на сосуде Да Юй дин. Уяснить же, что собственно под этим следует разуметь, позволяет позитивная формулировка данного условия, обнаруживающаяся в первом двустишии всё того же гимна Ле цзу 烈祖:
| 嗟嗟烈祖 有秩斯祐 |
Ревнивейший из ревнивцев, [твой] достославный предок оказывает свою поддержку [лишь тем, кто] соблюдает строжайший порядок [в посвященных ему ритуалах]. |
Итак, ввиду «исключительной ревнивости» покойных предков, под «развязностью (распущенностью, небрежностью)» ао 傲 приходится понимать любое отклонение от устава или регламента посвященных им ритуалов, всякое нарушение их «строжайшего - раз и навсегда установленного - распорядка» (чжи 秩).
5. Заявленное выше значение слова ао (*ngog) 傲 может быть дополнительно удостоверено следующими случаями его употребления в «Шан шу»: [52]
| [堯典] 帝曰夔命汝 典樂教冑子 直而溫 寬而栗 剛而無虐 簡而無傲 |
[Глава «Уложения Яо»] Государь сказал: «Куй, приказываю тебе заведовать музыкой! Воспитывай [с ее помощью] отпрысков [ста родов так, чтобы они], будучи прямыми, оставались благожелательными, будучи великодушными, оставались строгими; будучи твердыми, не были жестокими, будучи простыми, не были развязными» (Шан шу цзинь гу вэнь, 1936, с. 20). |
| [皋陶謨] [帝曰]無若丹朱傲 惟慢遊是好 傲虐是作 罔晝夜頟頟 罔水行舟 朋淫于家用殄厥世 |
[Глава «Советы Гао Яо»] [Государь сказал:] «Не подражайте распущенности Дань Чжу! Ведь [он] любил праздность и развлечения, действовал распущенно и дерзко. Ни днем, ни ночью не зная удержу, [он доходил до того, что] посуху передвигался на лодке! Предавшись кровосмесительному разврату в [собственном] доме, [он] погубил свой род!» (Шан шу цзинь гу вэнь, 1936, с. 33). |
| [盤庚] 王曰若格汝眾 予告汝訓汝猷 黜乃心 無傲從康 |
[Глава «Пань-гэн»] Царь, благословен [он!], сказал: «Приблизьтесь, вы, чжуны! Я обращусь к вам и разъясню вам [свои] замыслы. Отрешитесь от своих [эгоистических] настроений, не будьте распущенны, обратитесь к миру!» (Шан шу цзинь гу вэнь, 1936, с. 66). |
Заключительный параллелизм из первого фрагмента -
| 剛而無虐 |
Будучи твердым, не быть жестоким; |
| 簡而無傲 |
будучи простым, не быть развязным (распущенным) - |
не только исключает общепринятое истолкование слова ао 傲 как «заносчивость, надменность, высокомерие», но и убедительно доказывает его единственное значение, использованное в переводах всех представленных в настоящей статье цитат (в том числе и из «Ши цзин»). Это именно «развязность (распущенность)», видевшаяся в отклонении от тех или иных норм и установлений ритуала.
4) Будучи адекватно идентифицированными как сяо (*χįog) 囂 и ао (*ngog) 傲, слова *χįog ![]() и *ngog
и *ngog ![]() немедленно обнаруживают между собой взаимосвязь, типологически идентичную той, что была установлена нами выше для словосочетаний чжа-цзю 摣酒 «держать в руках жертвенное вино» и ю-гэн 有羹 «приносить жертву Гэн». Издревле связанные друг с другом обсуждаемым параллелизмом, слова сяо 囂 и ао 傲 продолжали тяготеть к совместному употреблению еще в эпоху становления классической письменной традиции. Так, они через запятую упоминаются в качестве негативных характеристик человеческого поведения в следующем фрагменте «Шан шу» (Шан шу цзинь гу вэнь, 1936, с. 10):
немедленно обнаруживают между собой взаимосвязь, типологически идентичную той, что была установлена нами выше для словосочетаний чжа-цзю 摣酒 «держать в руках жертвенное вино» и ю-гэн 有羹 «приносить жертву Гэн». Издревле связанные друг с другом обсуждаемым параллелизмом, слова сяо 囂 и ао 傲 продолжали тяготеть к совместному употреблению еще в эпоху становления классической письменной традиции. Так, они через запятую упоминаются в качестве негативных характеристик человеческого поведения в следующем фрагменте «Шан шу» (Шан шу цзинь гу вэнь, 1936, с. 10):
| 岳曰 瞽子父頑 母嚚象傲 克諧以孝烝烝 乂不格姦 |
Столпы [трона] сказали: «[Шунь -] сын слепца. [Его] отец невежествен, мать криклива, [брат] Сян распущен, [а он] умудряется поддерживать [семейное] согласие [одним лишь] преизобилием [своей] сыновней почтительности, обуздывать [низменные порывы своих близких одним лишь] непротивлением [творимому ими] злу». |
[53]
С тем же их упоминанием через запятую сталкиваемся мы и в посвященном жертвоприношению предкам гимне Сы и 絲衣, который ввиду малого его размера целесообразно привести здесь полностью (Мао ши, 1936, цз. 19.28, с. 158):
| 絲衣其紑 載弁俅俅 自堂徂基 自羊徂牛 |
[Их] одежды из некрашеного шёлка символизируют искренность [помыслов] 17, [их] надетые шапки символизируют благоговейное смирение 18. Из храмового зала [собравшиеся] направляются к священным загонам 19, от жертвоприношения баранов переходят к жертвоприношению быков. |
| 鼎鼐及鼒 20 兕觥其觩 旨酒思柔 不吳不敖 胡考之休 |
[Пусть] носорожьи рога поднимаются [всё выше], - сладкое жертвенное вино исполнено мягкости. [Поскольку участники жертвенной трапезы] не шумны, не развязны, - благоволение [их] покойных предков неизменно пребывает [с ними] 21. |
В данном случае слово ао 傲 вновь имеет характерную для сохранившейся версии «Ши цзин» ошибочную форму своего написания (敖), разъяснявшуюся выше на примере аналогичной ошибки в оде Сан ху 桑扈. Что касается слова сяо 囂, то оно заменено здесь словом у 吳, являющимся, согласно соответствующим определениям «Шо вэнь цзе цзы», его точным синонимом:
| 囂:聲也 |
«сяо 囂» значит «громко разговаривать (кричать, шуметь); громкая речь (крик, шум)», |
| 吳:大言也 |
«у 吳» значит «громко разговаривать, кричать; громкая речь, галдеж». |
[06] Содержащееся в данном предложении словосочетание фа бао 灋保 «оберегать согласно закону» представляет собой едва ли не первое явление понятия фа 灋 «закон» в древнекитайской письменной традиции. Очевидно наречное употребление слова фа 灋 перед сказуемым предложения бао 保 «оберегать; защищать; хранить» определяет и соответствующий спектр его возможных значений: «в силу закона, в соответствии с законом; закономерно, закономерным образом (неотвратимо, "автоматически"». Более обстоятельно понятие фа 灋 рассматривается в комментарии ко второму случаю его употребления в надписи «Да Юй дин» (см. [14]).
В обсуждаемом предложении наличествует один практически не читающийся иероглиф, от которого уцелели лишь три верхних штриха - ![]() . В последних я усматриваю верхнюю часть иероглифа ху 乎. имевшего во многих своих цзиньвэнь-написаниях начертание
. В последних я усматриваю верхнюю часть иероглифа ху 乎. имевшего во многих своих цзиньвэнь-написаниях начертание ![]() . В грамматической конструкции фа бао сянь ван ху [54] ю-сыфан 灋保先王乎有四方 я склоняюсь к трактовке слова ху 乎 как соединительного союза юй 于 «и», позволяющего видеть в словосочетаниях сянь ван 先王 «покойный государь» и ю-сыфан 有四方 «правители четырех сторон света» однородные дополнения сказуемого бао 保 «оберегать». Очень уж семантически близок предикатив бао 保 предикативу пу 匍 «заключать в отцовские объятия», который, как мы помним, уже принимал после себя дополнение ю-сыфан 有四方 (см. [04]). Во всяком случае, типологическая идентичность и даже синонимичность выражений пу ю-сыфан 匍有四方 и бао ю-сыфан 保有四方 особых сомнений не вызывает. К тому же, ранее в тексте утверждалось, что все эти правители пребывали в отцовских объятиях У-вана, а стало быть, оберегавшие последнего «крыла Бога» автоматически хранили и их вместе с ним.
. В грамматической конструкции фа бао сянь ван ху [54] ю-сыфан 灋保先王乎有四方 я склоняюсь к трактовке слова ху 乎 как соединительного союза юй 于 «и», позволяющего видеть в словосочетаниях сянь ван 先王 «покойный государь» и ю-сыфан 有四方 «правители четырех сторон света» однородные дополнения сказуемого бао 保 «оберегать». Очень уж семантически близок предикатив бао 保 предикативу пу 匍 «заключать в отцовские объятия», который, как мы помним, уже принимал после себя дополнение ю-сыфан 有四方 (см. [04]). Во всяком случае, типологическая идентичность и даже синонимичность выражений пу ю-сыфан 匍有四方 и бао ю-сыфан 保有四方 особых сомнений не вызывает. К тому же, ранее в тексте утверждалось, что все эти правители пребывали в отцовских объятиях У-вана, а стало быть, оберегавшие последнего «крыла Бога» автоматически хранили и их вместе с ним.
[07] Утвердившаяся в науке интерпретация данного фразеологизма грешит серьезными ошибками как в плане понимания его грамматической структуры в целом, так и в - совершенно уже фантастической - трактовке двух его последних слов 𠂤巳.
Го Мо-жо первоначально идентифицировал знаки 𠂤巳 как словосочетание гуань-цзи 官紀 «правила поведения чиновников» (ЦВГЛБ, с. 4068). Данной интерпретации, по-видимому, следовал У. Добсон, переводивший фразу 古喪𠂤巳 как «therefore lost official continuity» (Dobson, 1962, с. 224). Впоследствии Го Мо-жо изменил свою точку зрения, отождествив знаки 𠂤巳 со словосочетанием чунь-сы 純祀 «чистые жертвоприношения» (ЛЧЦВ, Т. 6, с. 34). Последнюю трактовку разделяет и Чжоу Фагао (ЦВГЛ, с. 7767, 8289). Однако обе эти интерпретации, несомненно, являются ошибочными.
Начнем с того, что слово 𠂤 образует словосочетание с предшествующим ему словом сан 喪, а вовсе не с последующим 巳. В связи с попытками отождествления последнего знака с иероглифом 祀, означавшим «жертвоприношения годового цикла», Сиракава Сидзука справедливо указывал на то, что во всем корпусе чжоуских цзиньвэнь нет ни одного случая написания слова сы 祀 без детерминатива ши 示, вследствие чего и отождествлять знаки 巳 и 祀 никоим образом нельзя (ЦВГЛБ, с. 4069). От себя могу лишь добавить, что даже в иньское время написание слова сы 祀 без детерминатива ши 示 представляет собой совершенно уникальное явление. Не больше существует оснований и для отождествления иероглифа 巳 со знаком десятиричного цикла цзи 己, поскольку начертания обоих в эпиграфике цзиньвэнь не имеют между собой ничего общего. Тем самым дезавуируется и первый вариант интерпретации Го Мо-жо слова 巳 как цзи 紀 «правила поведения». В результате остаётся только то, что с самого начала лежало на поверхности: иероглиф 巳 - это конечная частица и 已, указывающая на полную завершенность действия, выражаемого предшествующим ей предикативом, или категорический характер всего суждения в целом. В обеих этих функциях слово и 已 неоднократно встречается в «Ши цзин», в том числе и в древнейших его частях, язык которых достаточно близок языку западночжоуской ритуальной эпиграфики.
Что касается знака 𠂤, то существует всего две формальные возможности его интерпретации: это либо первоначально предлагавшийся Го Мо-жо иероглиф гуань 官, понимаемый, однако, не как «чиновник», а как «царский статус; служебные обязанности царя», либо иероглиф ши 師 того же в сущности значения «начальственное положение». В рассматриваемом контексте трудно отдать какому-либо из них явное преимущество, поскольку оба они образуют с предикативом сан 喪 словосочетания сан-гуань 喪官 и сан-ши 喪師 с одинаковым значением «лишиться царского статуса; потерять власть». И все же предпочтительнее, по-видимому, второе. В заключение нельзя также не отметить того факта, что словосочетание 喪官 в своем древнейшем [55] написании 噩𠂤 встречается уже в иньских надписях на гадательных костях (ИЦЦБ, с. 667 № 1253).
Не лучше обстоит дело и с достигнутым на сегодняшний день пониманием грамматической структуры обсуждаемого фразеологизма в целом.
| Прямая транскрипция |
Общепринятая интерпретационная транскрипция |
Актуальная интерпретационная транскрипция |
|
我 隹殷田 𩁹殷正百辟 |
我聞, 殷墜命. 惟殷邊侯甸 雩殷正百辟 率肄于酒. 故喪純祀. |
我聞, 殷墜命, - 惟殷邊侯甸 雩殷正百辟 率肄于酒故, - 喪師已. |
По сути, в общепринятой своей трактовке он превращается в бессмысленный набор бессвязных фраз «Как я слышал, инь[ский Шоу-дэ] утратил повеление [Бога]. Владетели иньской периферии и начальствующие центральных областей Инь поголовно погрязли в пьянстве. Вот почему [иньский Шоу-дэ] потерял [право на] чистые жертвоприношения». И никаким коррекционным исправлением «потери чистых жертвоприношений» на «потерю царского статуса» этот набор бессвязных фраз не спасается. Имеющийся в нем явный смысловой разрыв между двумя первыми предложениями (их полная самостоятельность, чтобы не сказать бессвязность) обессмысливает и заключение, содержащееся в третьем. В самом деле, остается решительно неясным «лишился ли [иньский Шоу-дэ] права на чистые жертвоприношения» потому, что «утратил повеление [Бога]», или же потому, что «владетели иньской периферии и начальствующие центральных областей Инь поголовно погрязли в пьянстве», и существует ли какая-либо взаимосвязь между двумя этими возможными причинами.
В действительности обсуждаемый фразеологизм представляет собой простое и лаконичное утверждение: «Как я слышал, инь[ский Шоу-дэ], утратив повеление [Бога], лишился власти» (我聞, 殷墜命, 喪師已), в середину которого вставлена причинная конструкция вэй 隹... гу 古 (вэй 惟... гу 故), разъясняющая причину первого - рокового для царя - обстоятельства (а именно утраты им божественного повеления на царствование). Вот почему «буквальным» переводом данной конструкции является следующий: «Как я слышал, инь[ский Шоу-дэ], - утратив повеление [Бога] по причине того, что владетели иньской периферии и начальствующие центральных областей Инь поголовно погрязли в пьянстве, - лишился власти». При таком понимании данной конструкции заключенное в ней содержание обретает исчерпывающую связность и осмысленность: 1) царь утрачивает божественный мандат на власть по причине недостойного поведения своих подчиненных; 2) утратив же этот мандат, он затем утрачивает уже и собственно власть как таковую.
Этими словами заканчивается первая часть инскрипции «Да Юй дин», представляющая собой преамбулу царского повеления, адресованного одному из ю-сыфан 有四方 («правителей четырех стран света») - Юю - правителю крупного периферийного владения Жун. Собственно же повеление наряду с подтверждением царем наследственных прав Юя на управляемое им владение содержало, в частности, следующее высочайшее предписание: «Исполняй обязанности [распорядителя] моих, Единственного-из-людей, жертвоприношений четырем странам света, ради того [56] чтобы я продолжал, удостаиваясь похвалы покойных государей, получать [под свое владычество населяющие их] народы и [занимаемые ими] территории» (см. [12]). Таким образом, содержание повеления оказывается неразрывно связанным с содержанием преамбулы, лишенной, как выясняется, малейшего намека на какую-либо пространность. Намереваясь передать своему вассалу часть своих верховножреческих полномочий 22, царь предварительно обращает всё его внимание на то, что с этого момента его (царя) собственная судьба начинает всецело зависеть от надлежащего исполнения им (вассалом) вышеозначенных полномочий. В подтверждение исключительной важности данного обстоятельства царь приводит два конкретных и, с его точки зрения, в высшей степени убедительных примера: 1) благоговейное отношение к исполнению делегированных им верховножреческих полномочий чжоуского У-вана, демонстрируемое его представителями в центре и на местах (царскими «управляющими делами» юй-ши 御事), обусловило неизменную божественную поддержку этого царя и незыблемость его власти; 2) недостойное отношение к исполнению делегированных им верховно-жреческих полномочий последнего иньского царя Шоу-дэ, демонстрируемое его представителями в центре и на местах (царскими «начальствующими центра» чжэн бо-би 正百辟 и «периферийными владетелями» бянь хоу-дянь 邊侯甸), стало единственной причиной утраты этим царем божественной поддержки, форсированно повлекшей за собой утрату его власти над четырьмя сторонами света.
[08]-[10] Важнейшая часть лексики, содержащейся в данных предложениях, подробно разбиралась ранее (Иванов, 2008, с. 173-177). Остается дополнить этот разбор кратким комментарием выражения мэй-чэнь 妹辰 (昧晨) «с юности» (var. «с отрочества»), а также рассмотреть второй случай употребления слова жо 若 «благословлять» в тексте обсуждаемой инскрипции (см. [09]).
Словосочетание мэй-чэнь 妹辰 (昧晨) «время перед рассветом» представляет собой специальный термин, обозначавший предрассветную часть суток и обычно записывавшийся словосочетаниями мэй-дань 昧旦 или мэй-шуан 昧爽. Однако в исходной форме его написания (до сих пор, правда, не обнаруженной) на месте знака мэй 昧, по-видимому, должен был находиться иероглиф ме 蔑, наилучшим образом передающий представление о коротком промежутке времени, в течение которого происходит гелиакический восход созвездий в точке предстоящего восхода Солнца. В Шумере гелиакически восходящие на пути Солнца созвездия именовались МЕ, в древнем Египте - Maet (др.-ег. транскрипция шумерского МЕ + др.-ег. суф. ж.р. -t) - «истинные; исполненные правды» и понимались как созвездия, удостаиваемые посещения Солнцем (встречающие Солнце; встречающиеся с Солнцем) по ходу его ритуального (из года в год с безукоризненной точностью повторяющегося) кругового шествия по эклиптике. В древнем Китае данное слово, неожиданно оказавшись воспринятым не из сменявших друг друга языков Месопотамии, а из древнеегипетского (на что недвусмысленно указывает его финальный согласный), получило первоначальное обозначение *miat 蔑 (букв. «слабо видимые глазами наблюдателя бараны» 23, т. е. звезды, плохо различимые на светлеющем предрассветном небе), затем [57] утратившее указание на слабую видимость наблюдаемых объектов, но все еще более или менее адекватное *mwəd 昧 (букв. «солнца еще нет») и, наконец, совершенно уже бессмысленное *mwed 妹 («младшая сестра»), с которым мы и сталкиваемся в раннечжоуской 24 надписи «Да Юй дин». В результате описанных метаморфоз одно из наименований шанской столицы - Мебан 蔑邦 «Город Правды; Град, стоящий на Пути Правды (пути Солнца)» - местопребывание Младшего Солнца (царя), поочередно принимавшего в нем спешащих на встречу с ним подданных вроде нашего Юя 25, - превратилось в «Шан шу» в абсурдное Мэйбан 妹邦 - «Город младших сестер», а иньскому царю Ди И в «Чжоу и» вместо «возвращения в собственную столицу» (Ди И гуй Ме 帝乙歸蔑) - если только не возвращения на ознаменовавший его правление праведный путь как таковой - было приписано на удивление странное занятие «возвращения чьих-то младших сестер» (Ди И гуй мэй 帝乙歸妹), обращенных в известном переводе Ю. К. Щуцкого в едва ли более осмысленных «невест». Возвращаясь к обсуждаемому контексту надписи «Да Юй дин», остается лишь констатировать, что словосочетание мэй-чэнь 妹辰 (昧晨) с его описанным выше сугубо терминологическим значением предрассветного промежутка времени, как выясняется, с успехом применялось еще и в качестве очевидной для всех метафоры ранней юности или даже отрочества.
На первый взгляд слово жо 若 в выражении жо Вэнь-ван лин эр-сань чжэн 若玟王令二三正 довольно трудно перевести иначе, как словом «подобно» («подобно Вэнь-вану, отдаю повеления начальствующим»). Однако такое его понимание, очевидно, ошибочно по существу. Вэнь-ван никогда не отдавал никаких повелений удельным правителям (напротив, будучи сам удельным правителем, он получал таковые повеления от иньского царя Шоу дэ). Не обладал он и царским титулом вана, включенным в его посмертное имя лишь после чжоуского переворота, осуществленного его сыном У-ваном. Так что ни о каком «подобии» реальных повелений реально царствующего Кан-вана измышляемым повелениям его никогда не царствовавшего прадеда не может быть и речи. В выражении жо Вэнь-ван 若玟王 мы вновь сталкиваемся с уже знакомым нам иньским значением слова жо 若 «благословлять». С точки зрения грамматики, данное выражение следовало бы переводить как «благословляя Вэнь-вана», что не то что бы совсем уж невозможно по смыслу, однако же крайне сомнительно ввиду наличия такого напрашивающегося варианта его перевода, как «с благословения Вэнь-вана». Последний, напротив, обладает исключительной органичностью, порукой чему могут служить приводившиеся выше примеры иньских гадательных надписей (см. начало комментария [02]), свидетельствующие о том, что всякое свое действие царь осуществлял не иначе как «с благословения Всевышнего» (Ди жо 帝若) или своих «младших и старших предков» (ся-шан жо 下上若). - Вот и Кан-ван уведомляет своего вассала о том, что, отдавая нынче повеления своим [58] удельным владетелям, он действует отнюдь не самочинно, а имея на то благословение основателя династии и своего покойного прадеда Вэнь-вана (полученное им посредством гадания). Что до «начальствующих» чжэн 正, то под оными, очевидно, подразумеваются высокопоставленные подчиненные царя вроде нашего удельного владетеля Юя. В финальной фразе царского повеления под «начальствующими» чжэн 正 будут подразумеваться уже подчиненные самого Юя (см. [14]).
[11] Ввиду абсолютной идентичности пиктограммы ![]() иньскому написанию слова эр 而, представлявшему собой изображение свисающей с подбородка бороды (ЦГВЦ, с. 2975), приходится дезавуировать ее общепринятую, но вполне безосновательную трактовку как начальной частицы юй 於. Впрочем, функционально слово эр 於 мало чем отличается от слова юй 於. Это также начальная частица с гипотетическим значением «итак; засим».
иньскому написанию слова эр 而, представлявшему собой изображение свисающей с подбородка бороды (ЦГВЦ, с. 2975), приходится дезавуировать ее общепринятую, но вполне безосновательную трактовку как начальной частицы юй 於. Впрочем, функционально слово эр 於 мало чем отличается от слова юй 於. Это также начальная частица с гипотетическим значением «итак; засим».
Перевод фразы в целом исходит также из предположения о том, что слова най 乃 «твой» и сы 嗣 «быть преемником; наследовать» перепутаны в ней местами, в пользу чего косвенно свидетельствует факт наличия в том же тексте выражения най цзу Нань-гун 乃且南公 «твой дед Нань-гун» (см. [13]).
[12] В данной фразе обращает на себя внимание архаическая нерасчлененность комплекса делегируемых вассалу царских полномочий - административных и судебных, верховножреческих и военачальнических.
[13] Ситуация, описываемая фразой и най цзу Нань-гун ци 易乃且南公旂 «жалую [тебе] штандарт твоего деда Нань-гуна», всего проще и нагляднее может быть разъяснена благодаря сохранившемуся в тексте «Шан шу» описанию церемонии инвеституры, проведенной только что воцарившимся легендарным государем Шунем (Шан шу цзинь гу вэнь, с. 13):
| 輯五瑞 旣月乃日 覲四岳羣牧 班瑞于羣后 |
[Взойдя на престол, Шунь] собрал [со всех служивших почившему государю] пять разновидностей [их] ранговых регалий. По истечении месяца [воцарившееся под новым именем Младшее] Солнце 26 [вторично] приняло столпов трона и пастырей [девяти областей] и [уже от своего имени] раздало ранговые регалии всем князьям [страны]. |
Так выясняется, что пять видов яшмовых регалий жуй 瑞, маркировавших пять древнекитайских рангов знатности удельных владетелей (гун 公, хоу 侯, бо 伯, цзы 子 и нань 男) и вручавшихся им государем при его восшествии на престол, подлежали с его смертью обязательному возвращению в царскую сокровищницу, с тем чтобы вновь быть оттуда полученными из рук следующего царя. В точности с теми же обстоятельствами связана и церемония инвеституры, описываемая в надписи «Да Юй дин». Об этом свидетельствует признание молодого царя в том, что он «[лишь] приступает к азам науки [управления]» (см. [08]), вкупе с поставленной в конце текста датой - «двадцать третий год [правления] царя» (см. [16]), - очевидно полагающей текущий год вовсе не первым годом нового царствования, а все еще очередным (на сей раз последним) годом царствования предыдущего. Вот почему за обсуждаемой фразой о даровании Юю штандарта его собственного деда скрывается всего лишь рутинная процедура подтверждения новым царем легитимности своего вассала в качестве правителя соответствующего владения. [59]
Что касается социально-правовой категории «государевых крепостных» ли 鬲 (правильное написание - ли 隸), то она подразумевает людей, внесенных в различные государственные реестры («списки душ»), определявшие размер и характер вмененных этим людям повинностей, в первую очередь воинских (Васильев, 1998, с. 150, 152-153). Последним обстоятельством объясняется засвидетельствованная в обсуждаемом контексте дифференциация людей-ли на «возниц» (юй 馭) и «простолюдинов» (шужэнь 庶人): первым надлежало исполнять воинскую повинность в колесничных войсках, вторым в пехоте.
Перевод последней фразы фрагмента - «безотлагательно <составь реестр всего их имущества> начиная с их земли» - достаточно условен. Открывающий ее иероглиф ![]() , всего вероятнее, представляет собой разнопись наречия цзи 亟, имевшего, согласно «Шо вэнь цзе цзы», значение «быстро; незамедлительно, немедленно; безотлагательно». Впоследствии данное наречие, по-видимому, стало записываться преимущественно знаком цзи 急. Далее в предложении следует два нечитаемых знака, о значении которых остается только гадать, опираясь на заключительные его слова «начиная с их земли».
, всего вероятнее, представляет собой разнопись наречия цзи 亟, имевшего, согласно «Шо вэнь цзе цзы», значение «быстро; незамедлительно, немедленно; безотлагательно». Впоследствии данное наречие, по-видимому, стало записываться преимущественно знаком цзи 急. Далее в предложении следует два нечитаемых знака, о значении которых остается только гадать, опираясь на заключительные его слова «начиная с их земли».
[14] Обращение Юй жо 盂若 «Юй, будь благословен!» представляет собой третий и последний случай употребления слова жо 若 «благословлять» в инскрипции «Да Юй дин».
Фраза Цзин най чжэн у фа чжэнь лин 敬乃正, 勿灋朕令 «Почитай твоих (= своих) начальствующих, - не смей скрывать [от них] мои повеления!» неоднократно встречается в западночжоуской ритуальной эпиграфике, неизменно оказываясь последними словами царского повеления. Правда, в отличие от исключительно стабильной в написании второй своей части, ее трехсловная первая часть (цзин най чжэн 敬乃正. «почитай твоих начальствующих») в большинстве надписей выглядит несколько иначе, а именно цзин су-си 敬夙夕 «проявляй почтительность с утра до вечера».
Финальное предупреждение у фа чжэнь лин 勿灋朕令 «не смей скрывать мои повеления!» представляет собой второй случай употребления в тексте «Да Юй дин» слова фа 灋 «закон», уже встречавшегося нам в составе словосочетания фа бао 灋保 «оберегать согласно закону» (см. [06]). Однако на сей раз мы сталкиваемся с такой его со временем почти совершенно стершейся коннотацией, как «наказание в виде отрубания ног». Иероглиф фа 灋 разъясняется в «Шо вэнь цзе цзы» посредством идеограммы цзин 㓝, относимой Сюй Шэнем к ключевому знаку цзин 井, означавшему «"колодезную" систему общинного земледелия» (ШВЦЦ-2, с. 339). При этом в словарной статье к слову цзин 㓝 - в дополнение к его определению «карать преступившего закон (фа 法)» (: 罰辠也; 辠: 犯法也) - приводится следующая пояснительная цитата из «Чжоу и»: «Колодезная система общинного земледелия (цзин 井) это - закон (фа 法)» (易曰井法也), из чего следует, что слово цзин 㓝 подразумевало вполне конкретную кару за вполне конкретное преступление - нарушение запрета на передвижение крестьян, намертво привязанных указанным законом к своим девятичастным полям-цзинам. Таковой карой, очевидно, являлось отрубание ног, поскольку с формальной точки зрения именно ноги служили преступным инструментом нарушения предписанной законом цзин 井 «черты оседлости». Если «закон» цзин-фа 井法 привязывал человека к земле юридически, то кара за его нарушение осуществляла это уже физически: человек, лишенный ног, был уже навсегда обречен «ходить на чреве своем и есть прах во все дни жизни своей». В связи с вышеизложенным нельзя не отметить того курьезного обстоятельства, что слово цзин 㓝 с его значением «отрубать ноги» постоянно смешивается исследователями (а порой [60] и издателями «Шо вэнь цзе цзы») со словом син 刑 «обезглавливать» (刑: 剄也), несмотря на все ухищрения Сюй Шэня, демонстративно разведшего два этих очевидно «однокоренных» (刂 «нож») и омонимичных (цзин /син) слова по разным углам своего словаря, отнеся их к семантически бесконечно далеким друг от друга ключевым знакам цзин 井 «"колодезная" система общинного земледелия» и дао 刀 (刂) «нож». То, что определение, данное Сюй Шэнем слову фа 灋 (равно как и его представленное выше истолкование), верно, в полной мере подтверждается этимологией самого знака 灋, ключевым комплементом которого является идеограмма, изображающая всем известное пресмыкающееся - «Рогатое Существо, в наказание лишенное ног», - идеально подошедшее для передачи средствами идеографии такого абстрактного понятия как «Закон воздаяния».
Итак, буквальный перевод фразы у фа чжэнь лин 勿灋朕令 - «Не смей отрубать ноги моим повелениям!». Смысл данного идиоматического выражения, как мне представляется, полностью проясняет следующий отрывок из главы «Пань-гэн» (Шан шу цзинь гу вэнь, 1936, с. 66):
| 古我先王亦 惟圖任舊人共政 王播告之* 修不匿厥指 王用丕欽罔有逸言 民用丕變 |
В древности наши покойные государи, заботясь [о спокойствии в стране], возлагали обязанности по управлению [ею] на мудрых людей. Когда государи рассылали им [свои] «Обращения», [эти] мудрые управленцы не скрывали их содержания [от народа]. Государи - по этой причине - были предельно тщательны и не допускали [в оных ни одного] неточного слова, народ же - по той же причине - был предельно послушен. |
* Вычленение мной синтагмы 王播告之 (вразрез с общепринятой 王播告之修) основывается именно на таком ее цитировании Сюй Шэнем в словарной статье к слову бо 譒 (sic!).
Фраза бу ни цзюэ чжи 不匿厥指 «не скрывали их содержания [от народа]» и является, по моему разумению, семантическим коррелятом фразы у фа чжэнь лин 勿灋朕令. Идиома фа лин 灋令 «отрубать ноги царским повелениям» и выражение ни чжи «скрывать их содержание [от народа]» равным образом означают пресечение хода этих повелений; воспрепятствование их свободному движению вниз. Запрещая вассалу пресекать ход своих повелений, царь запрещал ему не что иное, как сокрытие их содержания от народа, а стало быть, в первую очередь от его непосредственных подчиненных - тех самых «твоих начальствующих» най чжэн 乃正. В открытости для всех этих «начальствующих подчиненных» содержания монаршей воли и усматривалось уважительное к ним отношение вышестоящих. Таким образом, обе части финальной фразы образуют неразрывное смысловое единство: уважай своих подчиненных, не скрывай от них содержания полученных тобой высочайших повелений («не обрубай моим повелениям ноги, они должны "дойти" до всех твоих начальствующих»). Следует, однако, ясно отдавать себе отчет в том, что проистекал подобный запрет не столько из тех рациональных причин, о которых говорится в приведенной выше цитате, сколько из самой «солнечной парадигмы» древнего религиозного мировоззрения. Очевидным прообразом направленного вниз свободного движения потока царских повелений и милостей являлось благодатное движение солнечных лучей, достигающих всех и каждого вне зависимости от его положения на 60 социальной лестнице. Церемония получения вассалом или сановником того или [61] иного царского повеления или пожалования, ритуально воспроизводившая важнейшее сакральное «Первособытие» (пожалование царю божественного повеления на управление четырьмя сторонами света), кроме прочего, обязывала этого вассала или сановника, кардинально поменяв свою роль, воспроизводить ее на следующем уровне социальной иерархии, раздавая соответствующие повеления и пожалования собственным подчиненным, и т. д. - вплоть до пожалования каким-нибудь деревенским управляющим какому-нибудь крестьянскому сыну пайки риса вместе с повелением «быть достойным преемником и продолжателем дела его покойного отца».
[15] Стандартная и абсолютно обязательная заключительная формула подобного рода надписей, с очевидностью свидетельствующая о том, что истинным источником явленного царского благоволения осчастливленные им подданные полагали не столько суверенную волю монарха, сколько попечение со стороны своих предков. Вот почему «в ответ» на выказанное ему высочайшее благоволение Юй испытывает чувство благодарности в первую очередь по отношению к собственному покойному деду. В подтверждение этой благодарности он спешит изготовить для жертвоприношений ему новый «драгоценный бронзовый сосуд».
[16] Казалось бы, данная дата в надписи на сосуде Да Юй дин должна была раз и навсегда закрыть дискуссию о длительности царствования Чэн-вана, очевидно, продолжавшегося 23 года. Однако, по непонятным для меня причинам, ничего подобного в науке об истории древнего Китае не произошло. В сводной таблице шестнадцати вариантов реконструкции западночжоуской хронологии, представленной в монографии В. М. Крюкова, продолжительность царствования Чэн-вана оценивается различными исследователями следующим количеством лет - 30, 30, 30, 30, 12, 20, 30, 30, 32, 30, 25, 17, 32, 24, 37, 30 (Крюков, 2000, с. 413).
Кажется, никто и никогда (кроме Н. Барнарда, конечно) не пытался оспорить общепринятую датировку сосуда Да Юй дин эпохой раннего Западного Чжоу, традиционно подразумевающей период первых четырех царствований (У-ван, Чэн-ван, Кан-ван, Чжао-ван). Го Мо-жо, исходя из анализа форм и декора самого сосуда, а также графических особенностей знаков надписи, датировал его временем царствования Кан-вана (ЛЧЦВ, т. 6, с. 33-35), т. е. понимал приведенную в тексте дату не иначе как «23-й год правления Кан-вана», который, судя по содержанию надписи, являлся последним годом его царствования. Однако в упоминавшейся выше сводной хронологической таблице продолжительность царствования Кан-вана оценивается разными историками в 26, 26, 26, 26, 26, 26, 20, 26, 26, 26, 35, 26, 38, 27, 26, 29 лет (там же, с. 413). По любой из этих датировок (за единственным исключением) 27 получается, что наследовавший Кан-вану Чжао-ван проводит инвеституру Юя и (что еще того хуже) является субъектом жертвоприношений четырем странам света при своем еще живом и царствующем отце, что представляется мне совершенно невозможным. Впрочем, аналогичного рода рассуждение, исходя из представленных выше датировок царствования Чэн-вана, на первый взгляд правомерно и в отношении самого Кан-вана. Однако это не совсем так. Как явствует из этих датировок, наиболее популярной среди историков является версия о 30-летней продолжительности царствования Чэн-вана. Последнему, как известно, предшествовало 7-летнее регентство его дяди Чжоу-гуна, продолжительность которого никогда особых споров не вызывала, чего никак нельзя сказать о самом этом регентстве как таковом. Вполне возможно и даже [62] весьма вероятно, что - в отличие от выдумавших это «регентство» конфуцианцев, неизменно включавших семь его лет в годы царствования Чэн-вана, - сам царь 7-летнюю узурпацию престола своим дядей ни чем подобным не считал. Что, собственно, и подтверждает датировка надписи «Да Юй дин», согласно которой он умирает на 23-м году своего правления (30 - 7 = 23).
Кроме того, в пользу версии о том, что в надписи «Да Юй дин» под «23-м годом правления царя» следует понимать последний год царствования Чэн-вана, как будто свидетельствуют и иного рода соображения. Обратим внимание на то, в ком предлагает царь видеть Юю образец для подражания, в наследование кому он его вводит, чей штандарт он ему жалует. Речь идет исключительно о деде нашего героя. При этом покойный его отец не упоминается царем вовсе. Случайно ли это? Разумеется, нет. Дело в том, что основные ритуалы культа предков были устроены «через поколение»: их главным действующим лицом (так называемым «господином» чжу 主) являлся внук покойного (а вовсе не его сын, как можно было бы подумать). Именно внук играл в храмовых ритуалах роль явившегося духа своего покойного деда, угощался жертвенными дарами, выражал свое удовлетворение ими и обещал стоящему перед ним в благоговейной позе собственному отцу всемерную помощь и поддержку. Но в таком случае и сам царь в преамбуле своего повеления, скорее всего, должен был отдавать наибольшую дань памяти именно собственному деду, что он, по-видимому, и делает. С должным пиететом упомянув основателя династии Вэнь-вана (приходившегося ему прадедом) и ни словом не обмолвившись о Чэн-ване (приходившемся ему отцом), царь посвящает большую ее часть восхвалению У-вана ([04]-[07]), противопоставляя именно его выдающиеся добродетели преступной халатности последнего иньского царя. Из чего, на мой взгляд, с большой долей вероятности можно предположить, что У-ван и был его дедом. Скончавшимся же на 23-м году своего правления его отцом являлся Чэн-ван.
Если принять в качестве наиболее вероятной даты воцарения Чжоуской династии 1045 г. до н.э., то 7-м годом «регентства» Чжоу-гуна окажется 1036 г. (Shaughnessy, 1991, с. 230), первым годом правления Чэн-вана - 1035 г., а последним - 23-м по счету - 1013 г. до н.э. Последняя дата, по-видимому, и является датой создания сосуда Да Юй дин 大盂鼎.
Список сокращений
ИЦЦБ - Го Мо-жо 郭沬若. Инь ци цуй бянь 殷契粹編 (Избранные иньские надписи). Пекин, 1965.
ЛЧЦВ - Го Мо-жо 郭沬若. Лян Чжоу цзиньвэнь цы даси 兩周金文辭大系 (Большой свод надписей на бронзе эпохи обоих Чжоу). Т. 1-8. Пекин, 1958.
СББЯ - Сы бу бэй яо 四部備要 (Собрание текстов в четырех разделах). Т. 1-280. Шанхай, 1936.
ЦВГЛ - Чжоу Фа-гао 周法高. Цзиньвэнь гулинь 金文詁林 (Свод комментариев к надписям на бронзе). Т. 1-16. Гонконг, 1974.
ЦВГЛБ - Чжоу Фа-гао 周法高. Цзиньвэнь гулинь бу 金文詁林補 (Свод комментариев к надписям на бронзе. Приложение). Т. 1-8. Тайбэй, 1997.
ЦГВБ - Цзягу вэньбянь 甲骨文編 (Иероглифический словарь надписей на гадательных костях). Пекин, 1965.
ЦГВЦ - Ли Сяо-дин 李孝定. Цзягу вэньцзы цзи-ши 甲骨文字集釋 (Собрание толкований иероглифики гадательных надписей). Т. 1-8. Тайбэй, 1991.
ШВЦЦ-1 - Шо вэнь цзе цзы у цэ Сюй Сюань дэн 說文解字五册徐鉉等 («Объяснение простых знаков и истолкование сложных» в пяти книгах с добавлением толкований Сюй Сюаня). Шанхай, 1935. [63]
ШВЦЦ-2 - Шо вэнь цзе цзы Дуань чжу 說文解字段注 («Объяснение простых знаков и истолкование сложных» с комментариями Дуань [Юй-цая]). Шанхай, 1936 (СББЯ. Т. 44).
GSR - Karlgren B. Grammata Serica Recensa // Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities. Stockholm, 1957. № 29.
Список литературы
Источники
Мао ши 毛詩 («Песни» [в редакции] Мао [Хэна]). Шанхай, 1936 (СББЯ. Т. 1).
Хуайнань-цзы Сюй Шэнь чжу 淮南子許愼注 («Хуайнань-цзы» с комментариями Сюй Шэня) // Сы бу цункан 四部叢刋 (Собрание литературных произведений в четырёх разделах). Шанхай, 1928. Т. C. XL (1-4).
Чжоу ли Чжэн чжу 周禮鄭注 («Ритуал Чжоу» с комментариями Чжэна). Шанхай, 1936 (СББЯ. Т. 2).
Чунь-цю цзин чжуань цзи цзе 春秋經傳集解 («Вёсны и осени»: свод Канона и Комментария [Цзо-ши] с толкованиями). Шанхай, 1936 (СББЯ. Т. 5).
Шан шу 尙 書 (Книга документов). Шанхай, 1936 (СББЯ. Т. 1).
Шан шу цзинь гу вэнь чжушу 尚 書今古文注疏 («Книга документов» в записи новыми иероглифами» с комментариями и пояснениями). Шанхай, 1936 (СББЯ. Т. 24).
Ши цзи 史記 (Исторические записки). Шанхай, 1936 (СББЯ. Т. 49).
Литература
Васильев К. В. Истоки китайской цивилизации. М., 1998.
Иванов А. Е. Богобоязненность ходящих прямыми путями (к вопросу о происхождении и точном значении чжоуских категорий дэ 德 и вэй и 威儀). Часть I. Категория дэ 德 // Письменные памятники Востока. М., 2007. № 2(7). С. 47-77.
Иванов А. Е. Богобоязненность ходящих прямыми путями (к вопросу о происхождении и точном значении чжоуских категорий дэ 德 и вэй и 威儀). Часть II. Категория вэй и 威儀 // Письменные памятники Востока. М., 2008. № 2(9). С. 171-209.
Иванов А. Е. Под всевидящим оком пирамиды: присяги древнекитайских вассалов начала V в. до н.э. // Россия и Китай: Сборник статей. СПб., 2009. С. 155-202.
Крюков В. М. Ритуальная коммуникация в древнем Китае. М., 1997.
Крюков В. М. Текст и ритуал. Опыт интерпретации древнекитайской эпиграфики эпохи Инь-Чжоу. М., 2000.
Крюков М. В., Хуан Шу-ин. Древнекитайский язык. М., 1978.
Dobson W. A. C. H. Early Archaic Chinese. Toronto, 1962.
Gardiner A. H. Three Engraved Plaques in the Collection of the Earl of Carnarvon // The Journal of Egyptian Archaeology. 1916. Vol. 3. № 2/3. P. 73-75.
Shaughnessy E. L. Sources of Western Zhou History: Inscribed Bronze Vessels. Berkeley, 1991.
Takashima K. A Concordance to Fascicle Three of Inscriptions from the Yin Ruins. Taipei, 1985.
Комментарии
1. Между месяцем и днем нередко указывалась также «декада» месяца.
2. Не вступая здесь в бесконечную дискуссию по поводу значения термина ди 帝 в иньских гадательных надписях, отмечу лишь то, что я понимаю его как синоним божественного имени верховного божества иньцев Шан Ди 上帝 «Всевышний», в то время как многие исследователи усматривают в нем обобщенное обозначение обожествленных «покойных предков» иньского государя. Понятно, что в плане интересующей нас в данном случае проблематики подобного рода «разночтения» не имеют существенного содержательного значения.
3. Я полагаю, что вклад комплемента 甫 в иероглифе пу 匍 не исчерпывается ролью фонетика и что его значение «отец» привносит существенный смысловой оттенок в обозначаемые словом пу 匍 «объятия».
4. Если исходить из ошибочной версии о фонетической функции комплемента цы 此.
5. Соответствующую цитату из «И ли» с комментариями к ней см.: Иванов, 2007, с. 70-71.
6. Сюй Шэнь, безусловно, ошибается, полагая граф 灬 (火) «огонь» сокращением иероглифа чжао 照 «чистый, освященный», которому он приписывает функцию фонетика знака гао 羔 (ШВЦЦ-1, с. 114). В том, что «агнец, пекущийся на огне» (ян 羊 «баран» + хо 火 «огонь»), был и «чистым», и «освященным», не может быть никаких сомнений, однако, в данном случае, это не более чем замечательное совпадение. Известный с иньского времени знак гао 羔 представляет собой чистой воды идеограмму, лишённую каких-либо указаний на ее чтение.
7. Предложенный перевод знака мэй 美 (ян 羊 «баран» + да 大 «великий») базируется на его определении в «Шо вэнь цзе цзы» словом гань 甘. Значение последнего достаточно надежно выявляется в таких его словосочетаниях, как гань-ту 甘土 «благодатная земля», гань-лу 甘露 «благодатная роса, манна небесная; благословение свыше», гань-юй 甘雨 «благодатный дождь», гань-му 甘木 «благословенное древо (Древо Жизни)» и т. п. В свою очередь, значение самого иероглифа гань 甘 определяется словом мэй 美.
8. Любопытно, что в «Шо вэнь цзе цзы» описанию знака мэй 美 непосредственно предшествует именно описание иероглифа ци 𦍧 (羊 + 此), который, по моему убеждению, следует понимать как сокращённое написание иероглифа ци ![]() (羊 + 泚) Сюй Шэнь глухо и, на мой взгляд, ошибочно определяет значение слова ци как «название барана» (ШВЦЦ-1, с. 115), если только не почитать за «название» животного такую его характеристику, как «чистый (без порока), пригодный для жертвоприношения».
(羊 + 泚) Сюй Шэнь глухо и, на мой взгляд, ошибочно определяет значение слова ци как «название барана» (ШВЦЦ-1, с. 115), если только не почитать за «название» животного такую его характеристику, как «чистый (без порока), пригодный для жертвоприношения».
9. Показательны такие словосочетания знака цин 清, как цин-ли 清醴 - рит. «чистое молодое вино (для жертвоприношений)», цин-цзю 清酒 - рит. «чистое вино (для жертвоприношений)», цин-ди 清滌 - рит. «чистая вода (для жертвоприношений)» и т. д.
10. Показательны такие словосочетания знака мин 明, как мин-цы 明粢 - рит. «освященное (чистое; для жертвоприношений; жертвенное) зерно», мин-хо 明火 - рит. «чистый огонь (получаемый от Солнца; для всесожжений)», мин-шуй 明水 - рит. «чистая вода (получаемая от Луны роса; для омовений)», мин-и 明衣 - рит. «чистая одежда (ритуальная нижняя одежда при жертвоприношениях)» и т. д.
11. Цзюли 酒醴 - правильнее: лицзю 醴酒 - «молодое (слабое; сладкое) вино», предназначавшееся для ритуала угощения покойных предков.
12. Хэ-гэн 和羹 «мирная жертва Гэн» - альтернативное название «Великой жертвы Гэн-ци» (да Гэн-ци 大羹湇).
13. Внедрение в середину словосочетания ю-гэн 有羹 определения хэ 和 «мирная» выглядит вполне органично. Точно так же название какого-нибудь удела (скажем, Ци 齊) внедрялось в такой литой, казалось бы, титул, как ю-бан 有邦 «владетель удела»: словосочетания вроде ю-Цибан 有齊邦 «владетель удела Ци» неоднократно встречаются в надписях на ритуальной бронзе.
14. Словосочетание у янь 無言 «не разговаривать; молчать» невозможно понимать здесь иначе, как «не говорить в голос; не разговаривать громко». В противном случае ни о каких «спорах», упоминаемых в следующей строке, не могло бы уже быть и речи. Вот почему данное словосочетание, выглядя довольно сомнительным, наводит на мысль о том, что в оригинале текста на его месте, скорее всего, находилось именно словосочетание у сяо «не шуметь; не нарушать тишины (громкой речью)». Судя по всему, данное двустишие сообщает о необходимости соблюдения участниками царского жертвоприношения двух абсолютно разных запретов - у янь 無言 (= у сяо 無囂) «не разговаривать громко» (запрет нарушения тишины) и у чжэн 無爭 (ми ю чжэн 靡有爭) «не спорить друг с другом» (запрет нарушения единодушного благоговения, едва ли совместимого с каким-либо выяснением отношений).
15. Анализ содержащейся в данном четверостишии лексики см.: Иванов, 2008, с. 192.
16. Текст конца IV в. до н.э.
17. Цитирование данной строки в «Шо вэнь цзе цзы» (в словарной статье к знаку фоу 紑) обнаруживает разночтение по сравнению с сохранившейся версией канонического текста: на месте иероглифа сы 絲 у Сюй Шэня стоит иероглиф су 素, который, очевидно, и является аутентичным. Словосочетание су и означает «платье из некрашеного чистого белого шёлка» - ритуальную одежду участников жертвоприношения предкам, символизировавшую чистоту и искренность их намерений.
18. Согласно толкованию Мао Хэна, бином цю-цю 俅俅 имеет значение гун шунь 恭順 «благоговейное смирение, почтительная покорность».
19. Согласно толкованию Мао Хэна, знак цзи 基 обозначает здесь «подсобные помещения по бокам храмовых ворот» (мэнь-шу 門塾之基). Поскольку во второй строке данного двустишия говорится исключительно о жертвенном скоте, трактовка означенных «подсобных помещений» как «священных загонов для жертвенного скота» представляется наиболее вероятной.
20. Настоящая строка являет собой позднейшую вставку переписчика древнего оригинала.
21. В незначительном парафразе данное четверостишие содержится в оде Сан ху 桑扈 и выше уже цитировалось.
22. Здесь необходимо отметить, что, будучи главой теократического государства, чжоуский царь являлся единственным субъектом всех совершаемых в стране жертвоприношений (как собственным покойным предкам, так и четырем странам света). В силу очевидной физической невозможности реализации подобного мировоззренческого представления царь постоянно делегировал исполнение своих верховно-жреческих функций как отдельным высокопоставленным представителям своей администрации, так и разного ранга удельным правителям во всех уголках страны.
23. Любопытно, что древние египтяне называли звезды именно «баранами».
24. Данное обстоятельство служит дополнительным аргументом в пользу публично уже высказывавшегося мной утверждения о том, что очевидный расцвет древнекитайской культуры в эпоху Западного Чжоу следует рассматривать не иначе, как явление, связанное с глубочайшим культурным и религиозным декадансом эпохи ей предшествующей.
25. Показательно, что церемония инвеституры - встреча царя с его подданным, удостаиваемым соответствующего высочайшего повеления, - проводилась именно в предрассветное время, что непосредственно имитировало встречу солнца с восходящей одновременно с ним звездой. То обстоятельство, что пути царя и подданного в момент такой встречи очевидным образом пересекались, имело для последнего громадное религиозное и морально-этическое значение, недвусмысленно свидетельствуя о том, что он «ходит» теми же самыми «путями правды», что и являвшийся Сыном Бога (Тянь-цзы 天子) царь. Точно так же, как звездами, удостаиваемыми посещения Солнца, оказываются только те, что сами «ходят истинным путем» (т. е. «выбирают себе место» на эклиптике).
26. Я склоняюсь к пониманию крайне невразумительного выражения цзи юэ най жи 旣月乃日 как «Когда месяц истек, Солнце (= Государь)...» по той простой причине, что все его альтернативные трактовки (начиная с версии Сыма Цяня - цзэ цзи юэ жи 擇吉月日 «выбрал счастливый день месяца») представляются мне куда более «натянутыми».
27. Само же данное исключение (20 лет) также пребывает в неразрешимом противоречии с датой, фигурирующей в надписи (23-й год правления царя).
Текст воспроизведен по изданию: Надпись на ритуальном бронзовом сосуде Да Юй дин (раннее Западное Чжоу) 大盂鼎 // Письменные памятники Востока, № 2. 2010
© текст - Иванов А. Е. 2010© сетевая версия - Strori. 2024
© OCR - Иванов А. 2024
© дизайн - Войтехович А. 2001
© Письменные памятники Востока. 2010
